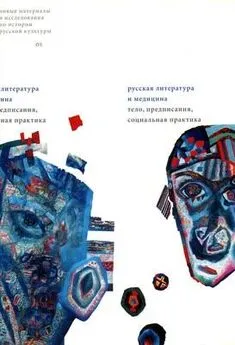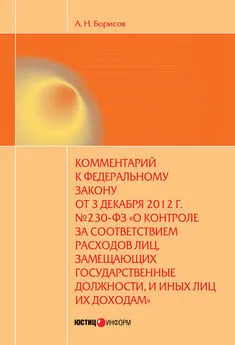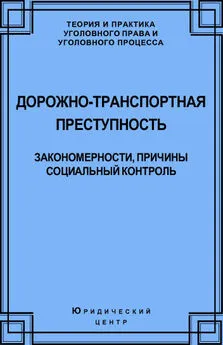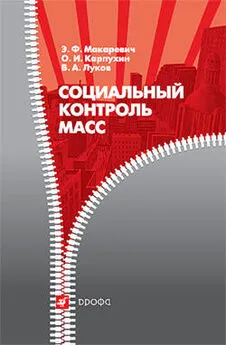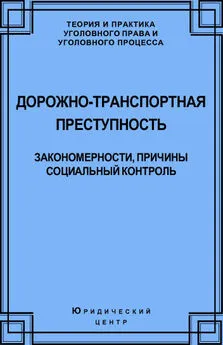Борис Голованов - Идеология: между метафизикой и социальным контролем
- Название:Идеология: между метафизикой и социальным контролем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Голованов - Идеология: между метафизикой и социальным контролем краткое содержание
Идеология: между метафизикой и социальным контролем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В школах восточной философии противостояние подлинного бытия и мира вещей разрешается с помощью доктрины майя . На вопрос о том, как Брахман (Единое) представляется в виде множества явлений человеческого мира, отвечает представление о майе , или божественной иллюзии . Мы можем сказать, что в индивидуальном человеческом восприятии единый Брахман представлен как чувственное многообразие вещей, развертывающееся во времени и пространстве. Мир многообразия – это аспект Брахмана, представляющий реальность для нас , но не для него самого. Конечный мир и Брахман – это разные уровни бытия и восприятия.
В одной из основных древнеиндийских философских школ – адвайте-веданте – доктрина майи раскрывается следующим образом. Ее истолкование исходит из того, что мир становления – мир многообразия предметов – возник в результате опосредования абсолютного бытия небытием. Небытие обнаруживается как утрата реальности. Категория «майя» используется в качестве названия для разделяющей силы и ограничивающего принципа. «Майя – это энергия Ишвары, его неотъемлемая сила, посредством которой он преобразует потенциальный мир в актуальный… Майя – это творческая сила вечного бога, и поэтому она вечна; посредством ее всевышний творит мир» [58] Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1993. – Т. 2. – С. 515.
. Хотя божественное творческое начало ( Ишвара ) продуцирует небытие как ограничивающий принцип, но само начало никоим образом не подвержено влиянию этого принципа [59] Ср. с диалектикой истинного и ложного: «Ложное знание о чем-нибудь означает неравенство знания с его субстанцией. Однако именно это неравенство есть различение вообще, которое есть существенный момент. Из этого различия, конечно, возникает их равенство, и это возникающее равенство и есть истина… Однако на этом основании нельзя сказать, что ложное образует некоторый момент или даже составную часть истинного. В выражении: «во всякой лжи есть доля правды» то и другое подобно маслу и воде, которые, не смешиваясь, только внешне соединены. Именно поэтому, что важно обозначать момент совершенного инобытия , их выражения не должны больше употребляться там, где их инобытие снято. Так же как выражения: единство субъекта и объекта, конечного и бесконечного, бытия и мышления и т. д., – нескладны потому, что объект и субъект и т. д. означают то, что представляют они собой вне своего единства, и, следовательно, в единстве под ними подразумевается не то, что говорится в их выражении, – точно так же ложное составляет момент истины уже не в качестве ложного». – Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. – СПб., 2002. – С. 20–21.
. Майя достаточно реальна, чтобы произвести мир, и достаточно нереальна, чтобы служить пределом для Абсолюта (Брахмана). Майя в восточных философских учениях рассматривается как вечная сила бога, как ограничивающий предел, устанавливаемый самим Брахманом. В силу божественного происхождения она обладает двумя свойствами: авараной – сокрытием истины и викшепой – представлением истины в ложном свете. В последнем случае майя трактуется как положительное порождение ошибки. Находясь под влиянием майи, мы не только не воспринимаем Абсолют, но представляем вместо него нечто другое. Мир преходящих вещей скрывает от нас подлинное бытие. Поскольку майя по своему характеру обманчива, она именуется авидьей , или ложным сознанием . Однако это ложное сознание трактуется не как недостаток или отсутствие представления, а как положительная ошибка . Майя – это то, из чего возникают обусловленные формы сознания и объективного существования.
Освобождение от трансцендентальной иллюзии – это важнейший шаг, который может сделать человеческое сознание на пути преодоления майи. И сущность этого шага – в различении сознания и мышления, трансцендентного и посюстороннего. Мышление – как всеобщее качество человека, как инструмент выживания человека во внешнем мире – нацелено на сохранение человеческого существования; сознание – как движение души – представляет божественную природу человека. Последний шаг, который может сделать человек, двигаясь по пути познания, – обнаружить предел познания в своей собственной душе (атман). Как только этот предел достигнут, наступает освобождение от трансцендентальной иллюзии и майи.
1.4. От теоретической критики иллюзий к практическому разложению иллюзорной действительности (К. Маркс и Ф. Энгельс)
Критика иллюзорного сознания только тогда может стать этапом в развитии научного знания, когда она выявляет действительное основание иллюзии.
В свое время де Траси и его единомышленники, несмотря на стремление подчеркнуть практический характер своего учения, стали объектом презрительного отношения к себе как к непрактичным прожектерам. Французский император Наполеон Бонапарт путем запугивания или прямого подкупа добился того, что французские «идеологи» перестали «мутить народ» и стали более лояльны к установленному им авторитарному режиму. После одержанной таким образом победы Наполеон охарактеризовал своих бывших единомышленников как фантазеров, оторвавшихся от реальности. Словоупотребление, указывающее на непрактичность идеологии и «идеологов», стало повивальной бабкой научного термина. Это родовая травма концепта «идеология» и по сей день оказывает влияние на содержание и разработку понятия.
Слово «идеология» до сих пор несет смысл чего-то отвлеченного от реальной жизни, создающего превратное представление о реальности. В этом смысле идеология противостоит науке и той реальности, которую поддерживает наука. Она хотя и выдает себя за истину, за истинное видение социальной реальности, иногда даже со ссылками на науку, но, в отличие от науки, стремление к объективному воспроизведению реальности не является ее движущей силой. Именно эту особенность идеологии имел в виду Наполеон, описывая факторы, под влиянием которых рухнуло здание его империи.
Как отмечал К. Манхейм, в устах Наполеона это слово впервые получило уничижительное значение, направленное против мышления политических противников. «С этого момента, – по мнению К. Манхейма, – термин “идеология” обретает дополнительный смысл, согласно которому каждая мысль, определенная как идеология, не может иметь практического значения; единственный же доступ к действительности открывает практическая деятельность, и в сопоставлении с ней мышление вообще – или в каком-либо частном случае определенное мышление – оказывается несостоятельным» [60] Манхейм К. Идеология и утопия. // К. Манхейм. Диагноз нашего времени. – М., 1994. – С. 67.
.
Интервал:
Закладка: