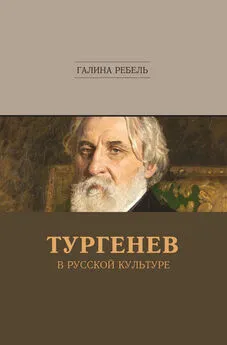Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно в этот период окончательно формируются мировоззренческие позиции Тургенева.
Напряженное чтение, размышления, общение с представителями европейской художественной и интеллектуальной элиты (Жорж Санд, Мериме, Шопеном, Мюссе, Гуно), профессиональная компетентность в области философии, просветительский склад ума – все это вместе предопределяет скептическое отношение к умозрительным системам и «атеистический» взгляд на вещи, неприятие человеческого самоуничижения перед божеством, которое, по Тургеневу, само есть создание человека. Размышление о кальдероновском «Поклонении кресту» завершается знаменитым, часто цитируемым высказыванием: «…Я предпочитаю Сатану, тип возмущения и индивидуальности. Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати» [ТП, 1, с. 449]. Реже замечается и понимается, что это рассуждение – один из первоэлементов образа Базарова – героя, чрезвычайно близкого своему создателю мировоззренчески, если понимать под мировоззрением не его социально-политическую составляющую, а весь идеологический комплекс в целом, всю совокупность идей и взглядов на мир.
В письме-дневнике от 17–20 апреля (29 апреля – 2 мая) 1948 года содержится очень показательный в контексте темы отклик на книгу Паскаля «Провинциальные письма»: «Это вещь прекрасная во всех отношениях. Здравый смысл, красноречие, комическая жилка – всё здесь есть. А между тем это произведение раба, раба католицизма <���…>» [там же, с. 458].
Лейтмотив всего этого длинного, многочастного письма – право на свободу мысли и слова от каких бы то ни было сковывающих догм, будь то «херувимы» Паскаля или бытовые представления о правилах гостеприимства. Рассказывая о проведенном в гостях вечере, Тургенев сетует на утомительную бессмысленность регламентированного общения: «Знакомы ли вы с такими домами, где невозможно разговаривать с распущенным умом, где разговор становится рядом задач, которые приходится решать в поте ума своего, где хозяева дома не подозревают того, что часто самое деликатное внимание с их стороны, это – не обращать внимания на своих гостей; где каждое слово как будто прилипает? Какая пытка! Такой разговор – это езда на перекладных, где вы представляете лошадь» [там же, с. 459]. На следующий день в том же письме-дневнике появляется ставшая знаменитой лирико-философская миниатюра, подводящая образный итог полемике с Паскалем: «Я без волнения не могу видеть, как ветка, покрытая молодыми зеленеющими листьями, отчетливо вырисовывается на голубом фоне неба – почему? Да, почему? По причине ли контраста между этой маленькой живой веточкой, колеблющейся от малейшего дуновения, которую я могу сломать, которая должна умереть, но которую какая-то великодушная сила оживляет и окрашивает, и этой вечной и пустой беспредельностью, этим небом, которое только благодаря земле сине и лучезарно? <���…> Ах! Я не выношу неба, – но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту… всё это я обожаю. Что до меня – я прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая влажною лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено, – всему тому, что херувимы (эти прославленные парящие лики) могут увидеть в небесах…» [там же, с. 460].
Смысл и пафос этого письма в нем же самом и сформулирован замечательным афоризмом: «Бьющаяся в плену мысль – печальное зрелище!» [там же, с. 459].
Рассказывая в одном из писем-отчетов о путешествии по Франции, Тургенев описывает процедуру церковного отпевания, сопровождавшуюся «резкими и фальшивыми голосами» мальчиков-певчих, и завершает этот рассказ принципиальным выходом за рамки не только процедуры, но и всего, что за ней стоит: «Положительно, я предпочитаю открытый воздух, костер и игры древних» [там же, с. 466].
Очевидно, что «язычество» и безрелигиозность Тургенева – следствие нежелания придавать (приписывать) «умственное» потустороннее обоснование-оправдание тому, что само по себе значительно. Мысль Тургенева отторгает эфемерное небо, заселенное умозрительными херувимами, и благодарно приникает к реальному и осязаемому – к утке, корове, каплям воды; но, укрепившись в своей любви к земному, она неизбежно проделывает обратный путь от «утки» – к «небу», вновь и вновь задаваясь вечными вопросами.
Вот как, например, из привычной игры слов вылущивается первозданный смысл фразы, а от него проторяется путь философскому скепсису, слегка завуалированному юмором и иронией: «Газеты пишут, что вы дебютируете 6-го, в субботу, правда ли это? В этот вечер в Париже некто будет… я не говорю беспокоиться, но во всяком случае… он будет не в своей обычной тарелке. Какое странное выражение, быть в своей тарелке, будто кушанье! А кто нас ест? боги? а если говорят, что кто-нибудь беспокоится, находится не в своей обычной тарелке, это беспокойство происходит, быть может, от возможности быть съеденным каким-нибудь другим, не своим богом. Я говорю глупости. Люди нас щиплют, как траву, а бог нас пожирает!!!» [там же, с. 460].
Примечательно, что преимущественная форма размышлений Тургенева – не готовая сентенция, а вопрос, часто неразрешимый: «Но что же такое эта жизнь? Ах! Я ничего об этом не знаю, но знаю, что в данную минуту она всё, она в полном расцвете, в полной силе; <���…> она заставляет кровь обращаться в моих жилах без всякого моего участия, и она же заставляет звезды появляться на небе, как прыщи на коже, и это ей одинаково ничего не стоит, и нет ей в том большой заслуги. Эта штука – равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа или бог; называйте ее как хотите, но не поклоняйтесь ей; прошу понять меня: когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда случается) – поклоняйтесь ей за ее красоту, за доброту, но не поклоняйтесь ей ни за ее величие, ни за ее славу! <���…> Ибо, во-1-х, для нее не существует ничего великого или малого; во-2-х, в акте творения заключается не больше славы, чем есть славы в падающем камне, в текущей воде, в переваривающем желудке; всё это не может поступать иначе, как следовать Закону своего существования, а это и есть Жизнь» [там же, с. 481].
Таким же вопрошающим было и отношение Тургенева к историческим событиям, свидетелем которых он стал в Париже в 1848 году. П. В. Анненков, наблюдавший Тургенева в эти годы, отмечал свойственное ему «опасение замешкаться и упустить самую жизнь, которая бежит мимо и никого не ждет. Им овладевал род нервного беспокойства, когда приходилось только издали прислушиваться к ее шуму. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, и сгорал жаждой ощупать возможно большее количество характеров и типов, ею порождаемых» 21 21 Анненков П. В . Литературные воспоминания. С. 326.
. Эти заметки проницательного приятеля наглядно иллюстрируются письмом Тургенева Полине Виардо от 15 мая 1848 года, которое самим автором озаглавлено так: «Точный отчет о том, что я видел в понедельник 15 мая (1848)». Здесь содержится масса подробностей, открывшихся взору наблюдателя, который неотрывно следовал за толпой, вглядывался в лица, вслушивался в разговоры, вникал в суть происходящего – но в итоге честно признавался в «невозможности дать себе отчет в чувствах народа в подобную минуту»: «Я не был в состоянии угадать, чего они хотели, чего боялись, были ли они революционерами, или реакционерами, или же просто друзьями порядка. Они как будто ожидали окончания бури. А между тем, я часто обращался к рабочим в блузах… Они ожидали… они ожидали!.. Что же такое история?.. Провидение, случай, ирония или рок?..» [там же, с. 464].
Интервал:
Закладка: