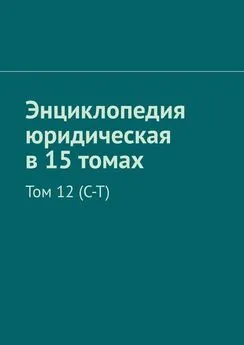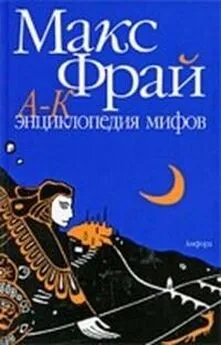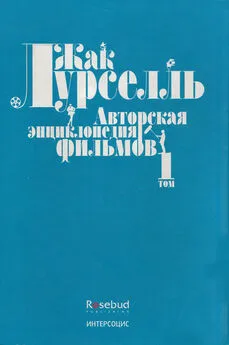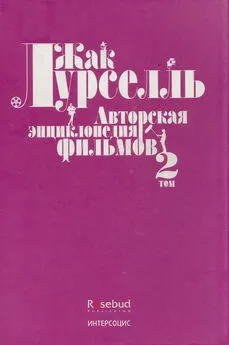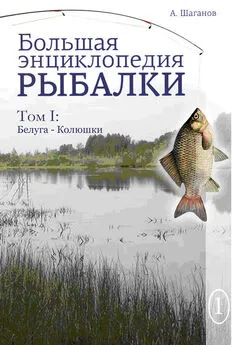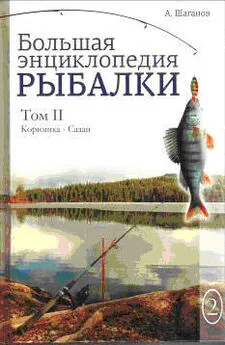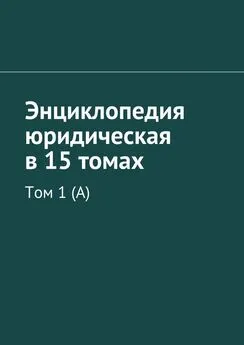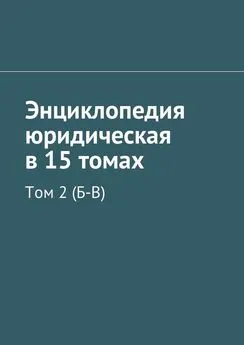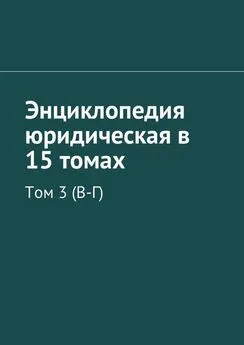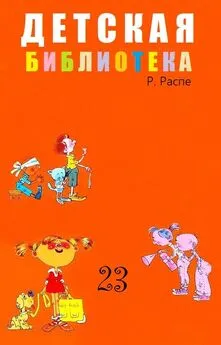Рудольф Хачатуров - Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 12 (С–Т)
- Название:Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 12 (С–Т)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005002396
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рудольф Хачатуров - Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 12 (С–Т) краткое содержание
Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 12 (С–Т) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ПН. Т. 4. С. 572 – 573.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.Справедливость – это понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия общественных отношений, правовых законов, общественного порядка общечеловеческим ценностям. Понятие справедливости, благодаря своей многозначности, используется в различных сферах познания и практики: в социально-гуманитарных науках, политической риторике, повседневном общении и т. д. Отсутствие семантической определенности этого понятия приводит к тому, что в современной научной и публицистической литературе широко представлены исследования, в которых доказывается приоритетность справедливости («Справедливость выше права!») над правом или же, наоборот, проводятся альтернативные мысли о том, что право включает в себя справедливость как неотъемлемую часть, а также сентенции о том, что справедливость возможна только под патронажем права (закона).
Поскольку традиционно принято обращаться к справедливости как символу долженствования, можно предположить, что до ее символизации и замещения исходного смысла разного рода технологическими и сциентистскими представлениями, справедливость воспринималась как способ бытия. По всей видимости, изначально справедливость существовала не как фигура речи, а как действие. Хотя в языке не сохранилась глагольная форма понятия справедливости, без допущения о том, что справедливость когда-то практиковалась как любое другое действие, сложно объяснить, почему за справедливостью закрепилась функция критерия оценки событий, явлений или конкретных действий.
В этой связи представляется правильным рассмотреть общепринятые толкования справедливости таким образом, чтобы в результате были выявлены значения справедливости как способа бытия (или действия). Полученные значения должны быть соотнесены с понятием права, и только затем следует подойти к решению вопроса о возможности установления между ними иерархических отношений.
Принято считать, что исторически первое понимание справедливости связано с непререкаемостью норм общественной жизни. Справедливость практиковалась как «уклад жизни» и выражалась в действиях, направленных на поддержание сложившегося порядка, и действиях, предотвращающих сомнения или попытки нарушения ее незыблемости. Платон считал справедливость «добродетелью великих душ» и, определив ее как один из высших нравственных принципов, стремился вывести за рамки повседневной общественной жизни. Подобные трактовки справедливости отражают общественные отношения, для которых характерны традиционность и «мягкие» формы социального неравенства. Очевидно, что они не требуют сложных форм социального регулирования, т.к. регламентируются обычаем и не предполагают позитивное право.
В противовес Платону, Аристотель в своем учении об уравнительной и распределительной справедливости возвращает справедливости ее утилитарный смысл. Уравнительная справедливость характеризует состояние обычных дел: «что-то обсуждали и достигли такой-то договоренности». Распределительная справедливость определяет процесс поиска договоренностей относительно сложных взаимодействий, требующих контроля со стороны некоего суверена. Поскольку распределительная справедливость определяет опосредованные отношения сторон, то ретрибутивной силы обычая оказывается недостаточно, и возникает необходимость закрепления договоренностей в письменных нормативных установлениях, сам факт наличия которых символизирует справедливость. В этом случае постановка вопроса об иерархии справедливости и права оказывается бессмысленной, так как эти сущности указывают на одну и ту же цель, достигаемую в совместных действиях.
Начиная с эпохи Нового времени, благодаря влиянию теорий общественного договора на социальные практики, из содержания понятия справедливости постепенно элиминируется идея ее происхождения в процессе определенной деятельности. В качестве источников справедливости определяются метафизические естественный закон, разумная природа человека или божественная воля. В результате справедливость начинает рассматриваться как самодостаточная, непосредственно не связанная с социальными практиками, ценность, которая может служить критерием оценки деятельности государства в отношении общества. Использование справедливости как формального критерия оценки благополучия социального порядка приводит к открытию сущностных противоречий между интересами государственной машины и общества. Они обнаруживаются, в частности, в диссонансе правовых ценностей, одним из проявлений которого является сама постановка вопроса: «Действительно ли справедливость выше права?». В содержании этого вопроса зафиксирован конфликт между законами государства и общественными ожиданиями, декларируемыми и реализуемыми правовыми ценностями и идеалами. Возможность множественных интерпретаций права и справедливости, отказ от их «привязки» к социальным практикам делают данную дилемму «справедливость или право» риторической фигурой, удобной для ведения символической борьбы теми или иными социальными силами.
Одним из вариантов возвращения к «деятельностной» модели справедливости представлено в теории Дж. Роулза. Данная теория строится на трех базовых допущениях, которые, к сожалению, не всегда учитываются ее адептами. Во-первых, Дж. Роулз предлагает рассматривать социальные практики любого вида во всех сферах общественной жизни по типу игровой деятельности 1 1 Ролз Дж. Справедливость и честность // Логос. – 2006. – №1. – С. 35.
. Действуя в рационально устроенной системе позиций и связей, социальный агент руководствуется принципами справедливости, которые даны ему априори 2 2 На признание Дж. Роулзом априорности принципов справедливости указывает следующее положение его теории: «…Во-первых, каждое лицо (person), принимающее участие в какой-любой практике, или находящееся в сфере ее воздействия, имеет равное право на наиболее обширную свободу, совместимую с такой же свободой всех остальных; и, во-вторых, неравенство допустимо только в том случае, если разумно ожидать, что оно будет выгодно для всех и при условии, что общественное положение и те должности, с которыми оно связано, или из которых оно вытекает, являются доступными для всех». // Там же. – С. 36.
. Как видим, и это составляет суть второго допущения Дж. Роулза, принципы справедливости оказываются родом нормативных суждений, которые сопровождают социальные практики регламентарно, налагают ограничения на общественное положение и должности, но не определяют их изначально и по существу.
Третье допущение данной теории состоит в том, что она имеет своим предметом только общественные институты, а справедливость как свойство, присущее отдельным действиям и лицам, в ней принципиально не рассматривается. Это связано с тем, что Дж. Роулз, являясь сторонником эгалитаризма, убежден, что без силы государства, как арбитра человеческих дел, справедливость не возможна. Государство, конституция обеспечивают и охраняют «игровое поле» социальных практик. Они же предполагают создание системы «искусственных» добродетелей, настроенных на справедливость. Думается, что теория справедливости Дж. Роулза описывает состояние дел, сложившееся в государствах с развитыми правовыми системами и формами дисциплинирования общества. А признание необходимости «искусственных» добродетелей для управления поведением превращает справедливость в один из формальных принципов права, содержание которого определяется деятельностью законодателя и практикой правосудия. В сфере индивидуального бытия справедливость оказывается родом честности, которая проявляется в действиях «игроков», принявших правила «игры» и стремящихся к максимизации минимума возможных достижений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: