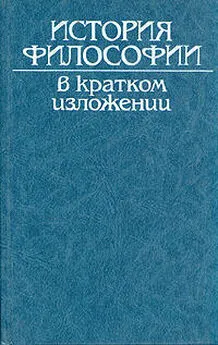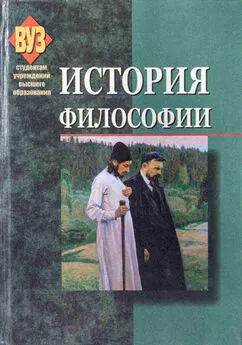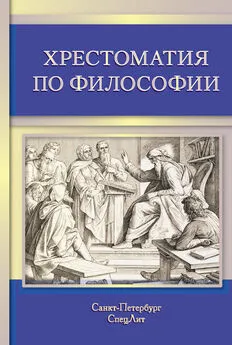Array Коллектив авторов - Своеволие философии
- Название:Своеволие философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907117-54-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Своеволие философии краткое содержание
Своеволие философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, существуют переживания, которые не могут быть выражены никаким жестом и которые, тем не менее, взыскуют выражения. Из вышеизложенного Ты уже знаешь, какие переживания я имею в виду, и какой характер они имеют. Таковы интеллектуальность, категориальность как сентиментальное переживание, как непосредственная действительность, как спонтанный принцип существования; мировоззрение в своей неприкрытой чистоте как душевное событие, как движущая сила жизни. Непосредственно поставленный вопрос: что такое жизнь, человек и судьба? Но лишь как вопрос; ибо и тут ответ не дает «решения», наподобие решений науки или – в горних высях – решений философии. Напротив, как в поэзии всякого рода, ответ [в эссе] – это символ и судьба и трагизм. Когда человек переживает нечто такое, то все внешнее в нем ожидает в окаменелой неподвижности разрешения, которое принесет борьба невидимых, недоступных чувствам сил. Любой жест, которым человек желает выразить что-то из этого, сделает ложным его переживание, если только этот жест не будет иронически подчеркивать свою собственную неадекватность и таким образом тотчас же себя уничтожать (aufheben). Человек, который переживает такое, не выражает ничего внешнего: как может поэзия создать его образ? Всякое письмо (Schreiben) изображает мир в символе какого-то судьбического отношения; повсюду проблема судьбы определяет проблему формы. Это единство, это сосуществование являются настолько тесными, что один элемент никогда не выступает без другого, а разделение [между ними] возможно здесь только в абстракции. Стало быть, то разъединение, которое я пытаюсь тут предпринять, по-видимому, является практически лишь различием акцентировки: поэзия получает от судьбы свой профиль, свою форму; форма проявляется здесь всегда только как судьба; в произведениях эссеистов форма становится судьбой, судьбоносным принципом. А это различие означает следующее: судьба изымает вещи из мира вещей, акцентирует весомые и исключает несущественные; а формы ограничивают матерьял, который в противном случае, подобно воздуху, расточился бы во вселенной. Судьба, таким образом, приходит оттуда, откуда приходит все прочее, как вещь среди вещей; в то время как форма – рассматриваемая как нечто готовое, то есть извне – определяет границы сущностно чуждому. Поскольку судьба, упорядочивающая вещи, есть плоть от их плоти и кровь от их крови, постольку в произведениях эссеистов нет судьбы. Ибо судьба, обнаженная от свой однократности и случайности, является воздушно имматериальной точно так же, как всякий бесплотный матерьял этих произведений; она способна дать им форму в столь малой степени, в какой они сами лишены всякой склонности и возможности конденсации в форму.
Поэтому такие произведения говорят о формах. Критиком является тот, кто распознает судьбическое в формах, чье сильнейшее переживание есть то душевное содержание, которое формы таят в себе косвенно и неосознанно. Форма – это его великое переживание; как непосредственное переживание она является образным, действительно живым началом в его произведениях. Эту форму, возникшую из символического рассмотрения жизненных символов, жизни сообщает сила такого переживания. Она становится мировоззрением, точкой зрения, позицией по отношению к жизни, из которой она возникла, возможностью ее перестроить и создать заново. Стало быть, судьбический момент для критика – тот, когда вещи становятся формами; то мгновение, когда все чувства, имманентные и трансцендентные форме, приобретают форму, сливаются и сгущаются в форму. Это мистическое мгновение слияния внешнего и внутреннего, души и формы. Мгновение настолько же мистическое, насколько мистичен судьбический момент трагедии, когда встречаются герой и судьба, он же – момент новеллы, когда встречаются случай и космическая необходимость, он же – момент лирики, когда встречаются душа и фон, – тот судьбический момент, когда они встречаются и срастаются в новое, не разделимое ни в прошлом, ни в будущем единство. Форма является действительностью в произведениях критика; она его голос, каким он адресует свои вопросы жизни: в этом состоит настоящая, глубочайшая причина, почему литература и искусство являются типичными естественными объектами критики. Ибо тут конечная цель поэзии может превратиться в исходный пункт и начало; ибо тут форма, даже в своей абстрактной категориальности, кажется чем-то надежно и осязаемо действительным. Но это лишь типичный матерьял эссе, но отнюдь не единственный. Ведь эссеист нуждается в форме лишь в качестве переживания, он нуждается только в той живой душевной действительности, которая в ней содержится. Однако такую действительность можно отыскать в любом непосредственном, чувственном проявлении жизни, можно вычитать из него и в него вчитать. Благодаря подобной схеме возможно переживать и формировать самое жизнь. И лишь поскольку литература, искусство и философия открыто и прямо устремляются к формам, в то время как в самой жизни они суть идеальное требование людей и переживаний известного сорта, постольку по отношению в оформленному в сравнении с прожитым критику необходима меньшая интенсивность способностей к переживанию; постольку действительность, какую открывает узрение формы (die Formvision), кажется здесь менее проблематичной, нежели там. Но так дело обстоит только при первом и поверхностном рассмотрении, ведь форма жизни не более абстрактна, чем форма стихотворения. Также и в жизни форма становится ощутимой только посредством абстракции, а ее правда также и здесь не является более могущественной, чем сила, с которой она переживается. Плоским было бы различение поэтических произведений в зависимости от того, черпают ли они свое содержание из жизни или откуда-то еще. Ведь формотворческая сила поэзии так или иначе ломает и развеивает все прежнее, уже оформленное, в ее руках все становится неоформленным сырым матерьялом. Столь же плоским мне представляется такое разделение и здесь, в жизни. Ибо оба вида миросозерцания суть лишь позиции по отношению к вещам. И каждый из них применим повсюду, хотя верно и то, что для каждой из разновидностей миросозерцания наличествуют такие вещи, которые с некоей естественной самоочевидностью подпадают под данную точку зрения, и другие, что могут быть принуждены к этому только посредством яростной борьбы и глубочайших переживаний.
Здесь, как и в любой подлинно существенной взаимосвязи, естественное воздействие матерьяла соприкасается с непосредственной утилитарностью: переживания, для выражения коих возникли произведения эссеистов, большинству людей становятся внятными только при виде картин или чтении поэтических произведений; они едва ли обладают силой, способной привести в движение самое жизнь. Поэтому большинство людей предпочитает верить, что тексты эссеистов написаны только ради того, чтобы объяснять книги и картины, облегчать их понимание. И все-таки указанная взаимосвязь является глубокой и необходимой. Именно нераздельное и органичное в этом смешении случайного и необходимого бытия составляет исток того юмора и той иронии, которые мы можем найти в произведениях каждого поистине великого эссеиста. Того своеобразного юмора, который является настолько сильным, что о нем уже больше почти не подобает вести речь; ибо кто его не воспринимает спонтанно каждое мгновение, тому все равно не поможет никакое точное указание на него. Под иронией я подразумеваю, что критик всегда говорит о конечных вопросах жизни, но всегда – таким тоном, как если бы он толковал лишь о книгах и картинах, лишь о несущественных и прелестных орнаментациях большой жизни. Но и тут не касался бы самого заветного в душе, а лишь красивой и бесполезной поверхности. Кажется, будто любое эссе находится в максимальном удалении от жизни; и разрыв между ними, по-видимому, тем значительней, чем более жгучим и болезненным является чувство фактической близости их подлинных сущностей. Наверное, великий сир де Монтень ощущал нечто в этом роде, когда он давал своим произведениям красивое и меткое наименование “Essays”. Ибо безыскусная скромность этого слова есть высокомерная куртуазность. Эссеист охлаждает собственные гордые надежды на приближение к последней истине, как ему иногда мерещится: он-де способен предложить только объяснения поэтических произведений и, в лучшем случае, – своих собственных понятий. Но иронически он смиряется с этой мелочью – вечной мелочью глубочайшей мыслительной работы над жизнью, и с иронической скромностью он это еще и подчеркивает. У Платона интеллектуальность обрамлена мелкими жизненными реальностями. Эриксимах чиханьем спасает Аристофана от икоты, прежде чем тот обретает способность начать свои глубокомысленные гимны Эросу. А Гиппофалес с боязливым вниманием наблюдает за Сократом, когда он допрашивает возлюбленного Лисия. С детской зловредностью маленький Лисий призывает Сократа точно так же помучить своего друга Менексена, как он мучил его. Грубые воспитатели разрывают нити этого диалога нежно-переливчатой глубины и тащат мальчиков за собой домой. Но наибольший смех вызывает Сократ: «Сократ и оба мальчика захотели стать друзьями, но были даже не в состоянии сказать, что, собственно, значит друг». Однако и в гигантском научном аппарате некоторых новых эссеистов (подумай лишь о Вейнингере) я вижу сходную иронию. И только по-иному артикулированное выражение таковой наличествует в тонкой и сдержанной манере письма, которая была свойственна Дильтею. В любом произведении любого крупного эссеиста мы всегда сможем найти эту же самую иронию, правда, каждый раз в другой форме. Единственно средневековые мистики были напрочь лишены иронии: ведь я не должен растолковывать Тебе, почему?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: