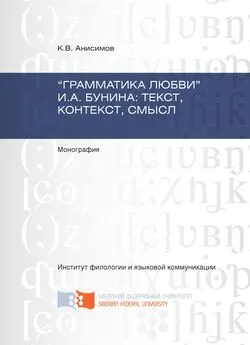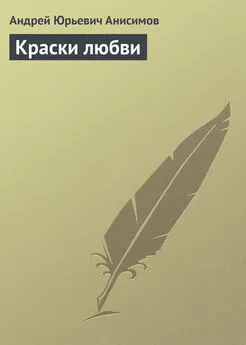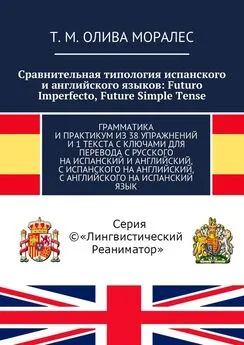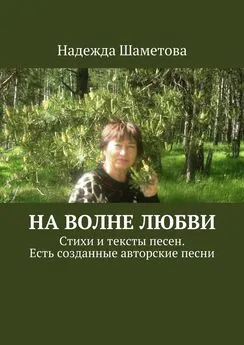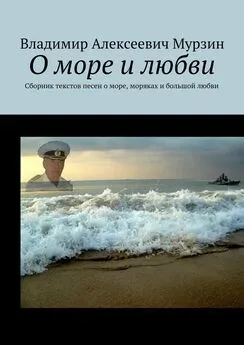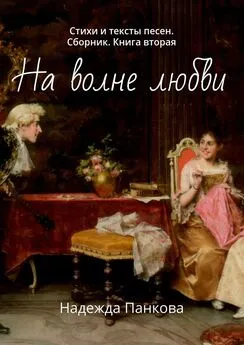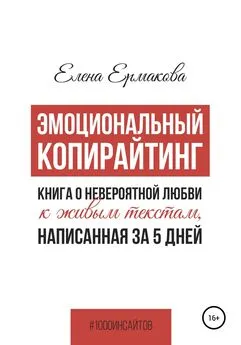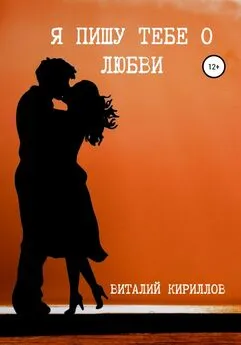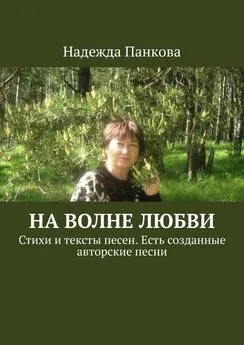Кирилл Анисимов - «Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл
- Название:«Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7638-3220-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Анисимов - «Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл краткое содержание
«Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Акцентирование социоисторического конфликта становится заметным при учете интертекстуального фона рассказа. О.В. Сливицкая убедительно предположила, что сюжет «Грамматики любви» обращен к повести И.С. Тургенева «Бригадир» (1868) 42 42 Сливицкая О.В. Бунин и Тургенев («Грамматика любви» и «Бригадир». Опыт сравнительного анализа) // Проблемы реализма. Вып. VII. Вологда, 1980. С. 78–89; Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни». Мир Ивана Бунина. С. 190–198.
. Однако в тургеневском произведении значение культурных подтекстов минимально: автор исследует феномен роковой страсти как таковой. Бунин осложняет историю любви фатальным культурным противопоставлением, ставя рядом с землевладельцем Хвощинским его горничную и отсылая тем самым читателя не только к важной для Тургенева шопенгауэровской теме страсти, но к сформулированной незадолго до того в «Суходоле» (1911) острейшей проблеме легитимности культурного преемства. Инструментом передачи традиции является литературное слово – так, написанный, казалось бы, почти исключительно «про любовь», рассказ начинает обнаруживать в своей семантике и поэтике отчетливый след профессиональной рефлексии его создателя, глубоко индивидуально осмысляющего свое отношение к традиции и канону. В этой перспективе, подобно рассказу «Легкое дыхание» (1916), который неоднократно попадал в фокус внимания литературоведов, «Грамматика любви» остро ставит вопрос о границах литературы, однако в отличие от «Легкого дыхания» соединяя эту линию более или менее отвлеченной эстетической рефлексии с напряженным историческим переживанием, отсылающим непосредственно к опыту и кругозору биографического автора. Недаром О.В. Сливицкой сюжет «Грамматики любви», действительно восходящий к семейному фольклору Буниных, назван одним из возможных «суходольских преданий» 43 43 Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни». Мир Ивана Бунина. С. 197.
. Таким образом, в бунинском рассказе 1915 г. результируется «крестьянская» тематика его большой и малой прозы, выведенная на новый уровень повестями «Деревня» и «Суходол», а затем поддержанная чередой программных рассказов 1911–1913 гг. («Древний человек», «Ночной разговор», «Веселый двор», «Захар Воробьев» и др. 44 44 Этим «каприйским рассказам», как назвал их Н.М. Кучеровский, присущи черты несобранного цикла. См.: Кучеровский Н.М. И. Бунин и его проза (1887–1917). Тула, 1980. С. 136–190.
). Наряду с этим подведением некоторого промежуточного итога в освещении национальной темы, рассказ инициирует мотивную линию будущих «Темных аллей», почти сразу, уже в 1916 г., позволяющую создать первый широко известный шедевр, непосредственно связанный с «Грамматикой любви» и являющийся вариацией ряда ее мотивов – «Легкое дыхание». Это «узловое» в бунинском творчестве положение истории о помещике Хвощинском, его любви, библиотеке и путешествующем alter ego автора по фамилии Ивлев заставляет обратить на рассказ самое пристальное внимание и подвергнуть его всестороннему анализу.
Цели, которые мы ставим в этой работе, заключаются в следующем.
Во-первых, необходимо как можно более полно детализировать отношения между двумя аспектами бунинского замысла: изображением любовной одержимости и словно надстроенным над ним блоком мотивов, которые относятся к семантическому контуру письменной культуры. Особенно явственно дуализм двух этих слагаемых общего замысла предстает в рукописной редакции рассказа. Правя текст, Бунин последовательно сокращает дистанцию между данными смысловыми полюсами, добиваясь превращения их в целостный, нераздельный мотивный сплав. Во-вторых, реконструкция метаповествовательного сюжета чтения и письма, четко фиксирующегося в «Грамматике любви», требует от нас осмысления всей исторической линии «библиотечных» сюжетов писателя с 1900 по 1920-е гг. Уже сейчас нетрудно понять, что «библиотечные» тексты формируют репрезентативный уровень психологической и жизнетворческой рефлексии художника о культурном каноне. Самоопределение Бунина в социально-исторических функциях канона, которые представляют собой весьма сложную систему координат, является для нас предметом специального интереса. Наконец, в-третьих, инструментальным подходом к смысловой структуре «Грамматики любви» будет для нас поиск неочевидных интертекстуальных перекличек, спрятанных автором в глубине нарратива рассказа. К числу очевидных относится данная явно (а в рукописи даже несколько выпяченная) цитата из стихотворения Е.А. Баратынского «Последняя смерть» (1828). Нарочитый характер этого интертекста обусловлен его главной (подчеркнем – главной, но не единственной) функцией: он относится к характерно бунинскому концепту реального как феномена памяти. Забегая вперед, скажем, что приемом композиционного «склеивания» смысловых планов любви и культуры служит в рассказе памятливость героев, ставящая их сознание на грань сна и яви. Именно этот аспект эстетической сверхзадачи текста и «подсвечивается» цитатой из Баратынского. Однако создавая сложноустроенную гибкую повествовательную структуру, образец новой неклассической поэтики, автор комбинирует в переплетах мотивных линий рассказа целый ряд интертекстуальных фрагментов, кодирующих «Грамматику любви» со стороны ее глубинных жанровых источников, идеологем прошлого, а также традиционной для Бунина напряженной эстетической полемики с предшественниками и современниками. Выше мы уже упоминали проницательные наблюдения О.В. Сливицкой, посвященные диалогу Бунина с Тургеневым. При всей принципиальной важности данного интертекстуального «моста» им одним, разумеется, дело не исчерпывается.
Богатое и разнообразное современное буниноведение 45 45 В этом кратком обзоре мы остановимся только на работах последних лет. Историография буниноведения, взаимодействие в его рамках различных научных течений представляют собой самостоятельную тему. Традиция изучения самого рассказа «Грамматика любви» будет освещена в примечаниях к конкретным аналитическим экскурсам, составившим разделы данной работы.
можно условно разделить на две основные традиции, успешно взаимодействующие, часто пересекающиеся, но при этом сохраняющие свои характерные особенности, приемы, тематические предпочтения. Речь в первую очередь идет о феноменологическом подходе, который восходит, при всех оговорках, к философской герменевтике. Он представлен именами О.В. Сливицкой 46 46 Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни». Мир Ивана Бунина. М., 2004.
, Ю. Мальцева 47 47 Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. М.; Франкфурт-на-Майне, 1994.
, Н.В. Пращерук 48 48 Пращерук Н.В. Художественный мир прозы И.А. Бунина: язык пространства. Екатеринбург, 1999.
, Т.Г. Марулло 49 49 Марулло Т.Г. «Если ты встретишь Будду…»: Заметки о прозе И. Бунина. Екатеринбург, 2000.
, О.А. Бердниковой 50 50 Бердникова О.А. «Так сладок сердцу Божий мир…»: творчество И.А. Бунина в контексте христианской духовной традиции. Воронеж, 2009.
и др. В перспективе этой традиции бунинское повествование рассматривается как производное от онтологических параметров мироощущения писателя. Яркие концепции, создающиеся в русле данного подхода, тяготеют к тому, что Т.М. Двинятиной в рецензии на книгу О.В. Сливицкой было удачно названо «идеальной проекцией» 51 51 Двинятина Т.М. «Мир Ивана Бунина»: идеальная проекция // Русская литература. 2008. № 2. С. 216–223.
.
Интервал:
Закладка: