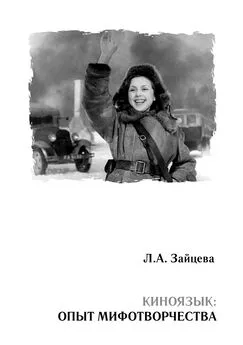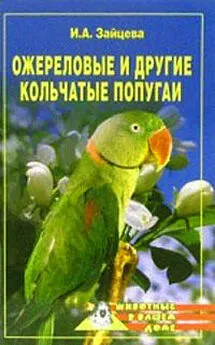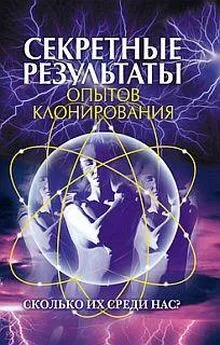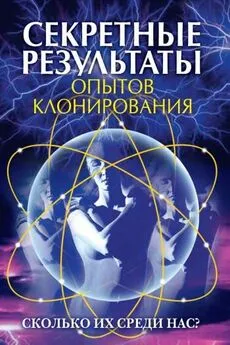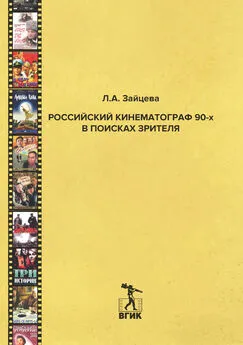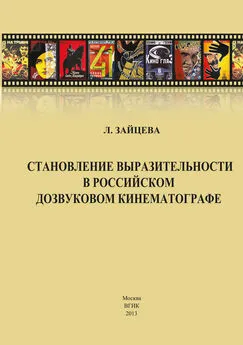Лидия Зайцева - Киноязык: опыт мифотворчества
- Название:Киноязык: опыт мифотворчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-87149-125-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Зайцева - Киноязык: опыт мифотворчества краткое содержание
Киноязык: опыт мифотворчества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако, включая в звуковую палитру картины речевой компонент, диалоги, авторы оказались, видимо, в большой зависимости и от несовершенной техники, и от собственных представлений о необходимости произнесенного слова в конструкции изобразительного материала. Герои, в принципе, говорят много. Однако слово в «Одной» звучит только в тех случаях, когда речь влияет на тот или иной поворот действия. Звук органично соседствует с титрами там, где авторы отдают ему предпочтение взамен написанного текста.
Самые яркие в этом отношении эпизоды – момент распределения в педучилище и после, по выходе героини на улицу. Она останавливается перед репродуктором, посреди толпы, слушающей диктора. Сверху (динамик подвешен на фонарном столбе) несется пафосный голос: «Что ты делаешь, что ты будешь делать?»… И звонкий писклявый голос героини Е. Кузьминой взлетает из благоговейно замершей толпы: «Я буду жаловаться!..» Рушится сотворённый в фантазии миф о счастливой жизни. Система не рассчитана на пожелания индивидуума и действует по своему усмотрению…
В. Сутырин, один из влиятельных функционеров тех лет, выступил с критикой фильма. В статье «От интеллигентских иллюзий к действительности» [11] Пролеткино, 1931, № 5–6, с. 14–24.
он прозорливо заметил, что «Одна» – картина о классовой борьбе сегодня, в ней рассказывается о крушении отвлеченных иллюзий. Однако при этом критик упрекает авторов в том, что у них раскрытие противоречий действительности подменяется показом контрастирующих явлений. То есть, способ сопоставления контрастов, характерный для монтажного метода, В. Сутырин считает теперь недостаточным. И всерьёз призывает авторов сознательно искать в современности идейный материал для своего творчества.
На утлой телеге, по бескрайней пустой равнине… И только остовы лошадиных голов отпугивают, видимо, нечисть от здешних мест. Вслед одинокой девчонке да неподвижному вознице несётся неведомо откуда степное ржанье. Мифология древних верований страшнее обыденной реальности. Куда уж до неё счастливым недавним мечтам…
Конкретное воплощение одного из окруживших героиню оборотней – председатель сельсовета (С. Герасимов). Старательно наводя внешний лоск (чистит сапоги), он принимает новенькую учительницу. Его жена (М. Бабанова) уныло поёт-завывает на печке, забившись едва ли не в дальний угол. Ни учтивости, ни даже элементарных признаков гостеприимства. Вместо ожидаемой «хорошей жизни», ни одного доброго (лишнего) слова. Приехала – и иди. Работай…
Своеобразную роль в картине ФЭКСов выполняет еще один компонент звуковой палитры – шумы. В отличие от эмоционального комментария событий в развитии музыкальной темы или драматургически-значимой звучащей речи они на протяжении всего действия фильма реалистически однозначны. Шумы выполняют лишь то, что им назначено в жизни: иллюстрируют содержание каждого кадра. В их насыщенности и конкретности – реальная обстановка действия.
Что-то стукнуло. Скрипнуло. Упало. Зазвенел будильник в солнечной ленинградской квартире. Завыл зимний ветер в ойротской степи. Мягко шурша, приземлился спасительный самолет. По-настоящему звякнул трамвай, отправляясь в счастливый сказочный путь… Авторы словно бы не придумывают, не имитируют жизненные пространства. И такой, казалось бы, простой обыденный шумовой ряд многое из вымысла «спускает на землю», всему случившемуся придает безусловную достоверность.
Анализ звукового ряда фильма «Одна», несомненно, позволяет говорить о высоком профессионализме и творческом характере работы звукооператора. Единая звуковая партитура, объединившая выразительную игру многочисленных трансформаций музыкального лейтмотива и различных его аранжировок, темпо-ритмических перепадов, смены тембров, других акцентов авторского комментария, оказывается вдруг в контрапункте, несоответствии с фрагментами речевого ряда. Скупой, обусловленный только значимостью в драматургических поворотах действия, диалог расчетливо вкраплен в развитие изобразительных композиций. Можно полагать, что, – повторим, – участники событий говорят значительно больше, только многое из сказанного не влияет на движение сюжета и потому отсутствует на звуковой дорожке.
Зато обе эти художественно-выразительные и четко обозначенные по своим задачам ипостаси звукового образа: музыка и речь, – органично дополняют реалистичность шумового ряда.
Первые опыты звукозаписи показали, что шумовая составляющая оказывается основой, над которой можно выстраивать не просто сложные музыкальные композиции (они отрабатывались уже в немом кино), но также и речевые компоненты. Их «вкрапление» в отдельные эпизоды первых звуковых картин свидетельствует о некоторой как будто робости, нерешительности в использовании произнесенного слова. По-видимому, экранное слово часто не соотносилось с авторским монтажным комментарием событий. Оно или удлиняло фрагмент, или упрощало, лишало его эффектной метафоричности при сопоставлении кадров. Шумовой ряд, оставаясь знаком реалистичности происходящего на экране, позволял, однако, режиссеру, конструирующему монтажный образ, по-своему распоряжаться элементами жизненно достоверных шумов.
В этом убеждает уникальный эксперимент Д. Вертова, предложившего в 1930-м году документальную картину о Донбассе, названную им – и это важно – одним из жанровых определений музыкальной композиции больших форм: симфонией.
Не все это поняли. И не сразу – об этом свидетельствуют ироничные заголовки рецензий на фильм. Однако такой высоко ценимый русскими новаторами мастер мирового класса, как, например, Ч. Чаплин, посмотрев фильм «Симфония Донбасса», назвал «мистера Вертова» величайшим из композиторов. Так в чём же открытие вертовского фильма?
Задумав первую звуковую документальную ленту (наряду с общеизвестными экспериментальными «План великих работ» (реж. А. Роом), «Процесс промпартии» (реж. Я. Посельский) и т. п.), вертовская съемочная группа оказалась буквально в плену грандиозной стройки: на огромном пространстве вырастали шахты, работала новейшая техника. Можно было только поражаться размаху, грохоту, противостоянию человека природной стихии. В художественном сознании документалиста возник образ героя-преобразователя, сравнимого с мифологическим Прометеем, добывающим огонь. Ни высокопарные комментарии «Плана великих работ», ни гневная авторская публицистика в «Процессе над промпартией» – ничто не шло в сравнение с мощнейшим напором техники в руках человека, преобразующего землю, веками хранившую так нужную людям энергию. Авторские ощущения, сравнимые с пафосом прикосновения к такого рода мифологеме естественно уподобить состоянию композитора, услышавшего в шуме и грохоте стройки мощные аккорды, нарастающее волнение будущего великого творения…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: