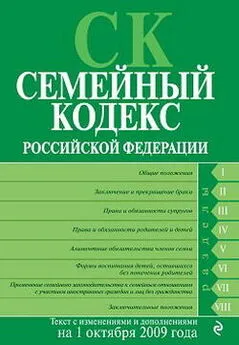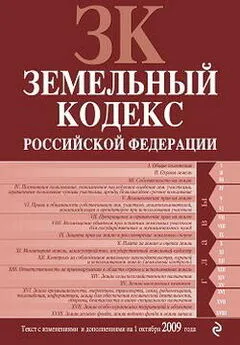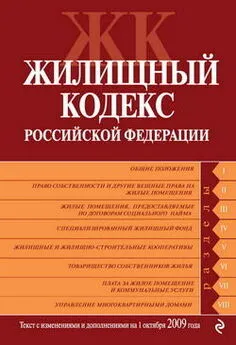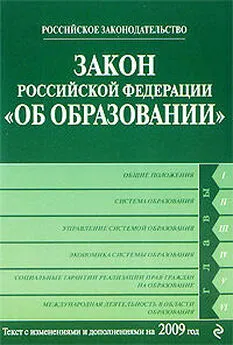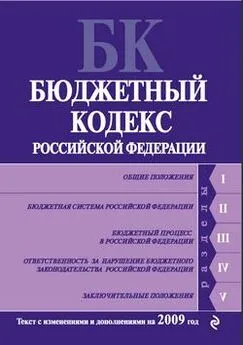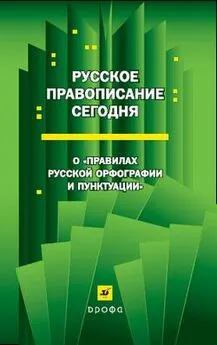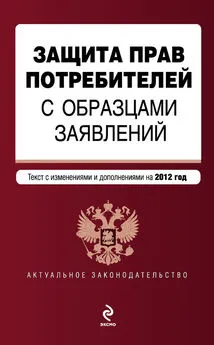Коллектив авторов - Русское искусство. Идея. Образ. Текст
- Название:Русское искусство. Идея. Образ. Текст
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-83-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Русское искусство. Идея. Образ. Текст краткое содержание
Русское искусство. Идея. Образ. Текст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобного рода правилами, несомненно, пользовался и выпускник академии М. М. Иванов, хотя и в более раннее время, чем вышло «Краткое руководство». Он прошел обучение в «лакирном» классе, затем – в классе «живописи птиц, зверей, цветов и плодов», которым руководил И. Ф. Гроот, числился среди учеников ландшафтного класса. В 1770 году получил малую золотую медаль за программу «Оливковое дерево… под ним несколько военных людей и пастухов с пастушками, играющих на инструментах и веселящихся». Будучи в 1770–1773 годах пенсионером в Париже, он учится у специалиста по «россике» Ж.-Б. Лепренса, под «смотрением» которого, очевидно, выполнил присланную в качестве отчета «картину его композиции, представляющую домашнее упражнение во дворе». Правда, фоном этого «домашнего упражнения» (видимо, не случайно совпадение с названием класса), известного сейчас как «Доение коровы» (1772, ГРМ), служат не «поля, горы, леса», а бревенчатая стена сельского дома с крыльцом, что сразу же придает всей сцене интерьерный характер, поддержанный сдержанной гаммой коричневатых оттенков и в целом атмосферой тихого «пейзанского» счастья. Основное действие происходит, как и положено в академическом полотне, на втором плане, окаймленном кулисами. Используется и мотив пирамидальной группы, составленной крестьянской семьей из трех человек. Помимо этого мотива на прочность и незыблемость семейного счастья намекает и привычный символ верности и семейного счастья – собака, по-видимому, не случайно «вписанная» в основание «пирамиды». Парная к ней работа «Пастух с пастушкой, возвращающиеся с пастьбы», видимо, не сохранилась. Однако имеются два рисунка (1771–1772, ГТГ) буквально «пасторального» характера, в которых и «скоты» изображены «исправно и лучшего рода», и «природные жители» в соответствующих «платьях», и «штиль» вполне отвечает избранному сюжету, как и незамысловатый легкий флирт на природе в рисунке «Пастух и пастушка».
С одинаковым успехом можно рассматривать и как ландшафтного живописца, и как мастера бытового жанра И. М. Танкова (1740/1741– 1799), сформировавшегося в Канцелярии от строений. Его универсальность нашла соответствующую оценку и в Академии художеств. Звание назначенного он получил (1778) за «две картины, представляющие сельские праздники». Работу же «Пожар в деревне в ночное время» (между 1780 – 1785, ГТГ) сочли достойной звания академика ландшафтной живописи (1785) 207. Как ландшафтный живописец он обращается к сельским видам, проявив при этом повышенный интерес к изображению соответствующего стаффажа в «приличной» ситуации. Так, параграф 6 раздела «о Ланшафтном роде» «Краткого руководства» Урванова гласит: «Чтобы достигнуть совершенства в писании ландшафтов, то еще надобно знать народные обычаи и обряды, иметь хорошее воображение и память, и упражняться в рисовании с человеческой натуры и других животных» 208. Вместе с тем внимание Танкова к «народным обычаям и обрядам» было столь велико, что превращает его деревенские виды из ландшафта как главного героя в своеобразную декорацию, в которой важнейшим становится уже праздник, пожар, ярмарка или сцена у корчмы. Чаще же всего «сцена» или «сцены» существуют на паритетных началах со сценическим, т. е. ландшафтным, пространством.
Театральность его живописи обусловлена как характером обучения (у А. Перезинотти) и соответственно работой в театре, так и темпераментом живописца, склонного к созданию на холсте вымышленного фантастического мира 209. Это было время, когда поощрялось «вымышление», однако по строго определенным правилам, в соответствии со сложившейся традицией и «прилично обстоятельствам». Танков воспроизводит свою картину сельской жизни, находясь под обаянием «кермес» (сценок сельских увеселений) фламандского живописца XVII века Д. Тенирса-младшего. Подобное предпочтение в творческом наследии отличает его от магистральной линии ландшафтной живописи в России. Между тем с Семеном Щедриным его объединяют именно сентиментальные тенденции. Это ощутимо в стремлении воспроизвести атмосферу счастья, идиллической красоты натуры, увиденной, кстати, именно в летнее время, хотя не обязательно в полдневное. Даже в деревенских пожарах он делает акцент не на трагической стороне дела, а на привлекательно зрелищной. В то же время интерес к ночным эффектам, а к «пожарам» нужно добавить исторический пейзаж «Тайное крещение» (1782, ГТГ), свидетельствует о предрасположенности к романтическому. С классическим ландшафтом конца столетия работы Танкова роднит сочетание отзвуков героического пейзажа (дошедшего, может быть, не напрямую из Италии, как у Щедрина или М. Иванова, а посредством голландско-фламандской рома-ники) с эмоциональностью языка. Универсальная глобальность разнообразного в своих проявлениях, данного с высоты птичьего полета мира становится достоянием личного чувства, допускающего соответствующий, отнюдь не всегда высокий «штиль» в трактовке стаффажа. Зачастую при его помощи Танков создает своеобразную энциклопедию сельской жизни, и прежде всего ее праздничной стороны. То, что в «костюмном роде» изображается на разных гравюрах, здесь предстает перед зрителем на одном полотне. Отдавая должное занимательности повествования и населяя театр «праздничных действий» множеством фигурок, которые у исследователей вызывали ассоциации с марионетками, мастер не только не вдается в детализацию, но пишет настолько порой свободно, эффектно затеняя одни группы и высвечивая другие, что подробности происходящего (столь важные для жанра) иногда лишь угадываются, а толпа превращается в живую разнообразную живописную массу (Праздник в деревне, 1779). Здесь вполне можно различить результаты «непосредственной наблюдательности»: «Под навесом кабака пируют крестьяне, баба и детишки удерживают готового пуститься в пляс пьяного мужика, у ларьков и палаток толпится пестрый люд, неизвестно по какой причине на земле оказался младенец, вокруг него суетятся женщины, художник „снимает портрет“ с двух крестьянок, которые сидят обнявшись, толпа ротозеев дивится на ученого медведя…» 210Иными словами, на всем лежит печать шумного ярмарочного балагана, атмосфера которого, может быть, впервые в России дает о себе знать в налете гротескности и широте проявления «смеховой культуры», лубочного начала, которое станет объектом вдохновенной стилизации лишь в следующем столетии. Здесь же кажется, что художник знаком с фольклорной культурой, так сказать, изнутри. Свидетельством этого является не только подсмотренный у нидерландцев широкий взгляд на натуру, но и «внеакадемический» оттенок его языка, в котором явственно видны черты живописного «простодушия», которое принято нынче называть «художественным примитивом». Между тем в этом ощущается если не стилизационная умышленность, то желание выработать лексику, соответствующую облюбованным сюжетам. Несколько грубоватая, но отнюдь не натужная манера позволяла без оглядки на требования правильности изображения человеческой фигуры с увлечением составлять одну сценку за другой, уподобляя каждую из них небольшому, слегка ироничному рассказу о простом деревенском «житье-бытье».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: