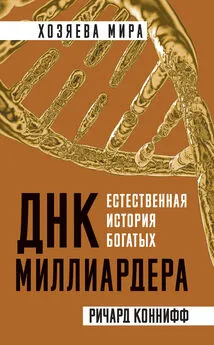Бертран де Жувенель - Власть. Естественная история ее возрастания
- Название:Власть. Естественная история ее возрастания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-579-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бертран де Жувенель - Власть. Естественная история ее возрастания краткое содержание
Власть. Естественная история ее возрастания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подведем итог: опыт общего национального чувства заставил рассматривать общество как единое целое. Не реализованное, поскольку многие индивидуумы, находящиеся в обществе, еще не ведут себя как члены единого целого, ибо скорее осознают себя индивидуумами , нежели членами . Но это целое реализуется как таковое по мере того как сознательные члены заставляют других вести себя и чувствовать себя должным образом, для того чтобы целое как таковое осуществлялось. И значит, они могут и должны беспрестанно подталкивать и тянуть несознательных. По-видимому, Гегель не хотел создавать авторитарную теорию. Но его теория, судя по ее плодам, говорит сама за себя.
Разделение труда и органицизм
Между тем, к середине XIX в. умы были настолько же потрясены индустриальным прогрессом и произошедшими социальными изменениями, насколько уже в начале века они были поражены феноменом национализма.
Однако эта колоссальная перемена, совершавшаяся в бешеном темпе начиная приблизительно с эпохи «Общественного договора», была объяснена уже с момента ее бурного проявления шотландцем Адамом Смитом. На страницах, ставших сразу знаменитыми и остающимися таковыми до сих пор, автор труда «Богатство наций» подчеркивал влияние разделения труда на увеличение его общественной производительности.
Идея о том, что человеческое общество производит тем больше (на языке Бентама – создает тем больше средств счастья), чем сильнее составляющие его индивидуумы развивают дифференциацию своих частных видов деятельности, стала быстро общим мнением.
Идея привлекательная, поскольку дает понять двоякое движение – дивергенцию, которая заканчивается конвергенцией. Гегель извлек из этого огромную пользу: напоминая, что Платон в своем «Государстве» строго следил за тем, чтобы граждане оставались подобными, и видел в этом необходимое условие единства общества, немецкий философ утверждает, что современному обществу, напротив, свойственно позволять совершаться процессу дифференциации и приводить всевозрастающее разнообразие ко все более богатому единству [84].
Уже в наше время Дюркгейм выразит эту мысль, противопоставляя «механическую» солидарность первобытного общества, где индивидуумы связаны своим сходством, «органической» солидарности развитого общества, члены которого оказываются необходимыми друг для друга именно по причине их различия [85].
Это понятие разделения труда введено в политическую мысль Огюстом Контом, который очень хорошо различает материальные и моральные результаты явления. Верно, что в материальной сфере дифференциация видов деятельности приводит к более эффективному взаимодействию между ними [86]. Тем не менее Конт еще не убежден, что согласование всех различий делается здесь столь автоматически, как это утверждают либеральные экономисты, которых он обвиняет в квиетизме *. По его мнению, публичная власть обязана вмешиваться, с тем чтобы облегчать такое согласование. Однако особое внимание Конт обращает на то, что развитие процесса способствует моральной дифференциации, от которой необходимо найти лекарство. Он полагает, что Власть должна «главным образом сдерживать и предупреждать, насколько возможно, эту фатальную наклонность к фундаментальному рассеиванию чувств и интересов, – неизбежный результат самого принципа человеческого развития, которое, если бы оно могло беспрепятственно следовать своим естественным курсом, неизбежно закончилось бы остановкой социального прогресса» [87].
Но концепция разделения труда не завершила на этом свое удивительное продвижение. Она еще захватит биологию и оттуда вновь возвратится в политическую мысль – благодаря Спенсеру, – с уже более богатым содержанием и с возросшим напором.
Биология делает решительный шаг вперед, когда открывает, что все живые организмы состоят из клеток: эти последние поистине являют собой почти бесконечное разнообразие, как между отдельными организмами, так и внутри одного и того же организма; и чем более высоко организованы организмы, тем более велико разнообразие находящихся в них клеток. Концепция разделения труда, заимствованная из политической экономии, рождает идею о том, что все эти клетки эволюционировали, возможно, посредством функциональной дифференциации, начиная от одной элементарной, относительно простой, клетки. И что последовательные степени совершенства организмов будут соответствовать процессу все более и более возрастающего разделения жизненного труда.
Так что в конечном итоге организмы можно будет рассматривать как все более и более развитые посредством разделения труда состояния одного и того же процесса взаимодействия клеток. Или как все более и более сложные «общества клеток».
Это одна из самых гениальных идей в истории человеческой мысли. И хотя современная наука больше не принимает ее в такой примитивной форме, понятно, что ее появление основательно потрясло умы, захватив над ними почти абсолютную власть, и привело к изменению мировоззрения, особенно политической науки.
Если биология представляла организмы как общества, почему политическая мысль, в свою очередь, не могла видеть в обществах организмы?
Почти одновременно с выходом «Происхождения видов» (ноябрь 1859 г.) Герберт Спенсер публикует в «Westminster Review» сенсационную статью (январь 1860 г.), озаглавленную «Социальный организм». В ней он показывает [88]сходство между обществами, состоящими из людей, и организмами, состоящими из клеток. Те и другие, начиная с малых совокупностей, мало-помалу увеличиваются в массе, и некоторые достигают размера, до тысячи раз превосходящего первоначальный. И те и другие имеют вначале структуру столь простую, что считается, будто они не имеют ее вовсе; но в ходе развития эта структура постоянно усиливается и усложняется. Вначале едва ли существует взаимная зависимость составляющих частей, но в ходе последующего роста эта зависимость становится таковой, что в конце концов жизнь и деятельность каждой части оказывается возможной только благодаря жизни и деятельности остального. Жизнь общества, как жизнь организма, независима от составляющих его частных судеб: отдельные единицы рождаются, растут, работают, воспроизводятся и умирают, тогда как целое тело выживает и идет вперед, увеличиваясь в массе, усложняясь по структуре и функциональной деятельности.
Этот взгляд тотчас же обретает громадную популярность. Современному чувству принадлежности целому он дал объяснение более понятное, чем объяснение гегелевского идеализма. И потом, на протяжении веков, сколько раз сравнивали политические тела с живыми телами? Легче всего принимают ту научную идею, которая готова подтвердить уже привычный образ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
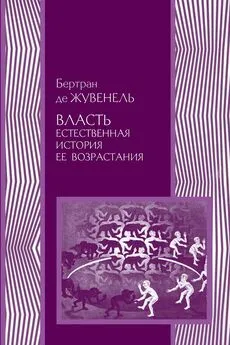

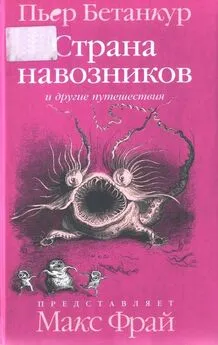



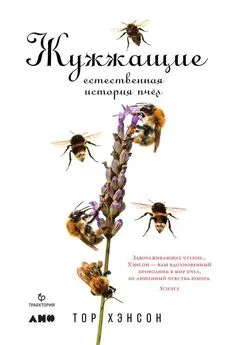
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095234/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar.webp)