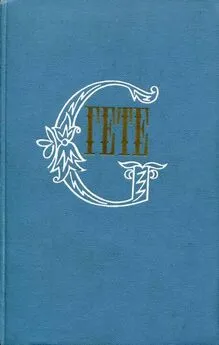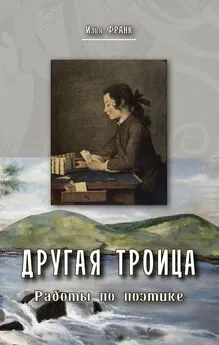А. Степанов - Главы о поэтике Леонида Аронзона
- Название:Главы о поэтике Леонида Аронзона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Степанов - Главы о поэтике Леонида Аронзона краткое содержание
Главы о поэтике Леонида Аронзона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ритмические структуры в поэзии могут запечатлеваться с помощью стоп, строк и строф, созвучий, повторения гласных и согласных звуков (или обозначающих их букв) внутри строки или в разных строках. Есть и более сложные, семантические ритмы, когда повторению подвергаются одни и те же или родственные по смыслу понятия. Ритмическое строение, наконец, может возникать и вследствие повторяемости (или переклички) тем, лексики, образов в различных произведениях автора. Все эти возможности активно используются Аронзоном. Например, в стихотворении «Утро» (1966), состоящем из 21 строки, слово «холм» повторено 10 раз (причем шестикратно на концах строк), «вершина» – 8 раз, «дитя-детей-младенец» – 8 раз; звучат как рефрен ударные строки «Это память о рае (вар.: Боге) венчает вершину лесного холма!»; варьируются одни и те же предложения. На фонетическом уровне: аллитерации («нас ‹…› обращает вершина лесного холма»), ассонансы («кто вознес его ‹…› высоко?» и т.д.) [ 4]. «Два одинаковых сонета» состоят из двух совершенно идентичных частей; в сборнике «Ave» текст стихотворения «Я жив / я щив / я чив / я шив» повторяется с некоторыми вариациями трижды, а «Что за чудные пленеры…» – дважды. В этих повторениях рождается новый, дополнительный смысл. Ритмы и их вариации в некоторых произведениях становятся едва ли не основными выразительными средствами (почти минуя семантику) – см., напр., стихотворение «Кто слышит ля-ля-ля-ля…» (1968).
В «Записи бесед» интонационно-синтаксическая организация полифонична и вариативна. Интересный пример артикуляции семантических ритмов представляет собой второе стихотворение из этого цикла:
(Партита №6
партита №6:
номер шесть
номершесть номершесть
5 номершестьномершестьномершесть)
или вырыть дыру в небе.
Многократное и упорное: не то, не то, не то, не то
Многократное и упорное: то, то, то, то, то, то, то, то
Смолчал: ужели я ____________________ не он?
10 Ужаснулся:
11
суров рождения закон:
и он не я, и я не он!
13 Лицо на нем такое, как будто он пьет им самую первую воду.
14 Его рукой -
немногие красавицы могли бы сравниться с ней! -
я гладил всё, как дворецкий, выкрикивая имя каждого:
17 гладил по голове: сердце чьей-то дочери, свое старое засушенное
между страниц стихотворение, -
18 голову приятеля, голову приятеля, голову приятеля.
19 Буквально надо всем можно было разрыдаться.
Сегодня я целый день проходил мимо одного слова.
Сегодня я целый день проходил мимо одного слова.
22 Уже не говорили – передавали друг другу одни и те же цветы,
иногда брали маски с той или иной гримасой, или просто указывали на ту или иную, чтобы не затруднять себя мимикой.
Но вырвать из цветка цветок
кто из беседующих мог?
25 И я понял, что нельзя при дереве читать стихи
и дерево при стихах,
и дерево при стихах,
и дерево при стихах.
Стихотворение начинается с варьирующегося «зацикливания», едва не бессмысленного и странного бормотания, обращающего читателя к бессознательному восприятию (бессознательность подчеркнута скобками, в которые взяты соответствующие строки). Но это вязкое бормотание прерывается пронзительным стихом: «или вырыть дыру в небе». Читатель несколько удивлен, а то и растерян: открытие или ошибка? – но автор возвращает его к настойчивому повтору: не то, не то,…, то, то. Затем в означенный цикл неожиданно вторгается цикл другой: два варианта одного впечатления, мысли (строки 9-12). Далее поэт избирает контрастный тон: длинные перетекающие, изысканные по содержанию строки. Но вот «странность» речи возрастает (строка 17), зазвучали тона начала стихотворения и как следствие – новый повтор (строка 18) и т.д. Стихотворение завершается активным, уже не варьирующимся повтором «странной строки», напоминающим возвраты патефонной иглы на деформированной пластинке, и это не только останавливает ход стихотворения, но и как бы замыкает конец на начало. Общее впечатление от стихотворения – помимо несколько необычной, невыразимой бессознательности – это впечатление весьма высокой содержательной емкости и явственного, иногда изысканного, иногда томительного эстетического переживания.
В прекрасной полусценарной прозе «Не пустой, не совсем пустой магазин цветов…» Аронзон инструментирует текст с помощью повторов, перекличек (в чем-то подобных перекличкам из последних глав «Песни песней»):
Одинокая пара, одинокая пара, одинокая пара, одинокая пара выбирает цветы: цикламены, гвоздики (я не помню, какие вы любите, но и те) – где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? – вот розы твои. Фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой… Где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? – Вот розы твои. Вот фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой.
Достоинства приведенного выше «Пустого сонета» также во многом обязаны выразительной силе повторов (лексических, семантических и фонетических) и их вариаций. Начинаясь с вопросительной заставки-восклицания, это стихотворение далее становится весьма «певучим», непрерывно развиваясь и организуя циклы (так катится колесо по дороге), но под конец строки укорачиваются, интонация превращается в более отрывистую, движение замедляется и прекращается, будто натолкнувшись на высокую преграду или достигнув цели, и эта остановка подтверждается дважды повторенным в последней строке словом «стояли-стоят», в строке, которая утверждает семантическую центральность адресата послания.
Поэзия Аронзона представляет собой сложную картину переплетения многообразных ритмов.
В.Набоков в романе «Ада» писал: «Может быть, единственная вещь, которая намекает на смысл времени, это ритм, не периодические удары ритма, но брешь между двумя такими ударами». В самом деле, ограниченная звуками тишина (в случае фонетических ритмов) заставляет нас ожидать нового звука, и в этом ожидании внимаемая тишина обретает содержательную наполненность. Чем сильнее наше ожидание, тем пауза более напряженна. Это ожидание и играет роль ее «смысла». Пауза, с одной стороны, воспринимается как длящаяся (в силу действия нашего внутреннего метронома, а также метрономов, заданных динамикой литературного произведения), т.е. дает нам возможность ощутить поступательное движение времени, вслушаться в это движение, а с другой стороны – ожидание накапливается от начала к концу паузы, возникает чувство «сгущения», сгущения самого времени (т.е. нашего восприятия последнего). Накопленное ожидание может дойти до предела, переполнить меру терпения, и появляется желание прервать, прекратить паузу. И тогда мы получаем возможность, насколько удастся явственно, ощутить, вплотную подойти к представлению о том, что называют вечностью – точнее, той модели вечности, которая трактуется как «предел сгущения времен», как их прекращение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: