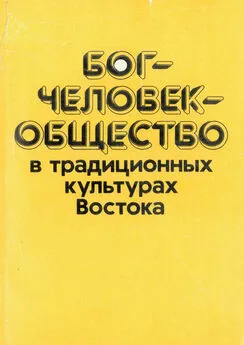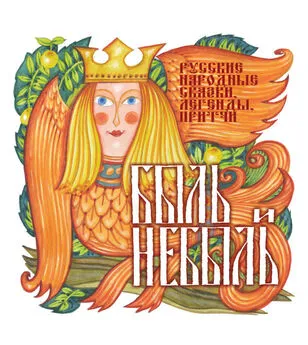Александр Панченко - Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект
- Название:Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОГИ
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-94282-263-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Панченко - Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект краткое содержание
Монография представляет собой первое систематическое исследование культурной традиции двух массовых религиозных движений XVIII — начала XX в.: христовщины (известной также как «секта хлыстов», «люди божьи» и т. п.) и скопчества («секта скопцов»), Фольклор, ритуалы и идеология христовщины и скопчества рассматриваются в широком контексте простонародной религиозной культуры XVII — XX вв.
Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сразу же необходимо сделать несколько терминологических оговорок. Термины «хлыстовство», «хлыстовщина» и т. п. являются экзонимами, искажающими самоназвание секты — «христовщина», «христова вера» и т. п. [1] Сами сектанты могли объяснять появление этого имени следующим образом: «враг (дьявол) не может выговорить слово „христы“ и поэтому говорит „хлысты“» (РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. № 914. Л. 21 об).
Были и другие самоназвания последователей христовщины — «люди божьи», «белоризцы» и др. Кроме того, различные локальные группы сектантов могли иметь разные эндонимы: так, тамбовские последователи Аввакума Копылова называли себя «постниками». Наконец, варьировались и «внешние» обозначения последователей христовщины. В разное время и в разных местах их могли называть «богомолами», «шелапутами», «квасниками», «фармазонами» и т. п. Известны также экзонимы, основанные на аналогиях с раннехристианскими и западноевропейскими религиозными движениями: «монтаны», «квакеры», «мормоны». При этом оценить степень культурного единства «хлыстовства» довольно трудно. Дело в том, что и христовщина, и скопчество развивались достаточно динамично. Уже к середине XIX в. от традиционных форм ритуалистики и фольклора ранней христовщины остается довольно мало, а сектанты, которых называли «хлыстами» в 1900—1910-х гг., зачастую и вообще не имели никакого отношения к этому движению. Тем не менее в дальнейшем я буду пользоваться терминами «хлысты» и «хлыстовщина», сознавая всю их условность и не сохраняя за ними никаких отрицательных коннотаций.
Согласно традиционной таксономии, сформулированной синодальными богословами и миссионерами второй половины XIX в., христовщина и скопчество являются «мистическими сектами» (в противовес сектам «рационалистическим» — духоборцам, молоканам и субботникам). В действительности, однако, говорить о каком-либо ярко выраженном «мистицизме» или «рационализме» и тех, и других движений довольно сложно. Подлинные критерии разграничения здесь несколько иные. Специфика христовщины и скопчества — в упомянутой экстатической ритуалистике, сравнительно малой ориентации на религиозную книжность, особой значимости эсхатологических ожиданий и верований. Кроме того, хлысты и скопцы, в отличие от других сектантов, не порывали с традиционными формами православного религиозного обихода. Несомненно, можно согласиться с Д. Г. Коноваловым, полагавшим, что правильнее было бы называть христовщину, скопчество и близкие им секты «не просто мистическими, а „мистико“-экстатическими“ или прямо „экстатическими“» [2] Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. Ч. 1, вып. 1: Физические явления в картине сектантского экстаза. С. I.
. Впрочем, здесь я также предпочитаю следовать традиционной номенклатуре — просто чтобы не создавать терминологической путаницы.
Наконец, о термине «секта». Не без усердной помощи идеологии православного фундаментализма это понятие приобрело в отечественной традиции XIX—XX вв. более или менее негативные коннотации. Кроме того, под «сектой» у нас обычно понимается некая социальная организация религиозных диссидентов, противопоставляющих себя господствующей религии. Я употребляю этот термин вне каких-либо оценочных значений и не вношу в него устойчивого социологического смысла. Граница между «сектантами» и «не сектантами» в массовой деревенской и городской культуре России XVIII — начала XX в. зачастую пролегает не на уровне каких бы то ни было общественных структур: обычно мы опознаем ее на основании различий в религиозных практиках и формах повседневного поведения, специфических типов идеологии и фольклорных текстов.
Основная задача настоящей работы состоит в описании (как синхронном, так и диахронном) и анализе (функциональном и структурно-типологическом) устойчивых форм традиционной культуры христовщины и скопчества с преимущественным вниманием к религиозному фольклору этих движений.
За последние десятилетия научная парадигма фольклористики (как дисциплины, изучающей традиционные формы словесности) претерпела значительные изменения. Это касается и предметной сферы, и методического арсенала дисциплины. В современных исследованиях фольклор интерпретируется не столько в качестве эстетического феномена, сколько в качестве пространства текстов, выполняющих ряд важнейших социальных, когнитивных и идеологических функций, не выходя при этом за рамки повседневного обихода общественной группы. Соответственно расширился и перечень социокультурных сфер, где обнаруживаются явления «фольклорного» характера. Одна из таких сфер — религиозные практики, формы повседневной религиозной деятельности, не подлежащие прямому контролю со стороны репрессивных социальных институтов.
В задачи настоящей работы не входит подробное обсуждение актуальных проблем теории фольклора и фольклористики. Однако я считаю необходимым кратко сформулировать исходные методологические посылки моего исследования. Суть их сводится к следующему.
1. Понимание фольклора как «устного народно-поэтического творчества» в настоящее время утратило свое эвристическое значение, и любое исследование «поэтики» либо «эстетики» фольклора, игнорирующее социально-исторические контексты изучаемых материалов, невозможно признать методологически корректным. Столь же неправильно говорить о сугубо устной природе фольклорных текстов и пытаться распространить традиционное жанровое деление на все формы словесности, изучаемые фольклористикой. Многие культурные явления, несомненно относящиеся к «фольклорной» реальности, на эмпирическом уровне вообще не опознаются в качестве связных формульных текстов. В связи с необходимостью «расширительной» трактовки фольклора логичнее понимать фольклористику не как дисциплину, характер которой раз и навсегда определен рамками изучаемого материала, но как один из возможных методов «остранения», детавтологизации культурных явлений.
2. Современная критика прямолинейных позитивистских методов исследования традиционной культуры указывает на необходимость интегративного подхода к описанию и анализу фольклорной реальности [3] См.: Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 43.
. Это значит, что понимание фольклорного явления не будет полным без учета различных социальных и идеологических уровней его рецепции (начиная от первичной аудитории текста и заканчивая его собирателями и описателями, конструирующими предмет своей научной деятельности). Поскольку фольклор по определению атрибутируется обществам с достаточно развитой социальной структурой и сложной системой коммуникаций (необходимо, по меньшей мере, наличие письменности и обособленной социальной элиты), количество этих уровней обычно велико, а система их взаимосвязей — многообразна. Игнорирование любого из этих уровней является существенным промахом не только в теоретико-методологическом, но и в сугубо источниковедческом смысле.
Интервал:
Закладка: