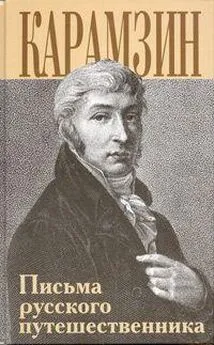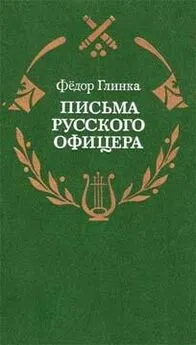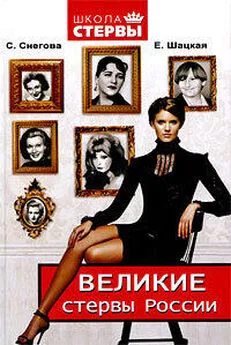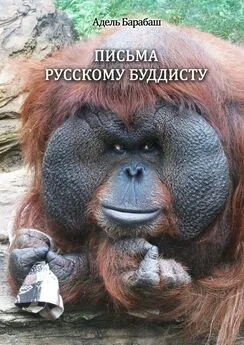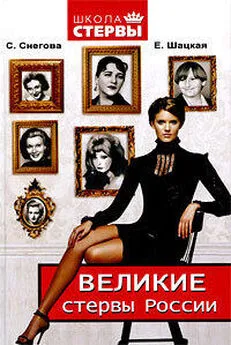Кирсти Эконен - Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме
- Название:Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-889-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирсти Эконен - Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме краткое содержание
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.
Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Верино разрешение рассказчице позировать перед художниками можно прочитать в дионисийском ключе: ведь Вера воспринимает свое решение отдать любовницу художникам как жертву [388] Концепция Диониса встречается также в некоторых других моментах произведения. Как заметила К. Бинсвангер, время написания дневника (с декабря по апрель) соответствует циклу умирания и нового рождения Диониса (Binswanger 2000, 16). Далее, как она заметила, дионисийские знаки можно обнаружить, например, в описании Вериных глаз: «с пурпуром почти, как черный виноград» (Зиновьева-Аннибал 1907-а, 40). Характер Веры в целом можно охарактеризовать как дионисийский в своей противоречивости, трагичности, страдании и склонности к эйфории.
. Ее реплики свидетельствуют, что она действует согласно «ивановским» идеалам. Дионис — «жертва, и он же жрец», — говорит Иванов (Иванов 1995, 95). Она «как жертва и богиня», — говорит Вера о своей любовнице в «Тридцати трех уродах». Помимо истолкования в платоновском контексте, движение персонажей по лестнице можно интерпретировать также в рамках «дионисийской» модели творчества. Иванов представлял ее в форме «восхождения» и «нисхождения». В повести это проявляется так: сначала героини «восходят» в квартиру Веры, оттуда они «нисходят» в мастерскую художников, в конце концов, любовница покидает Веру и спускается вниз по «бесконечно длинной» лестнице на улицу. Чтение повести в дионисийском ключе показывает, что, хотя пространственная структура повести следует модели восхождения и нисхождения, в повести не обнаруживается никакого положительного результата дионисийского нисхождения. Окончательным «разрушительным моментом» повести является рисование портрета, которое не ведет к новому соединению или новому рождению, а, наоборот, — к смерти и раздробленности. Можно заключить, что, подобно вышерассмотренным пунктам символистской эстетики, дионисийская модель творчества в повести также остается поверхностной, формально как бы согласующейся с эстетическими требованиями, но содержательно пустой и никуда не ведущей, даже, по сути дела, противостоящей дионисийской концепции творчества. К тому же вместо нового рождения в «Тридцати трех уродах» фигурирует смерть. Подобно платоновской концепции однополой любви, дионисийская модель также оборачивается своей изнанкой.
Святая Агата и жертва женщины на алтарь искусства
Все рассмотренные выше отсылки к эстетике и идеологии символизма: однополая любовь, комплементарность, жизнетворчество и дионисийский миф — показаны в «Тридцати трех уродах» с женской точки зрения. Повесть Зиновьевой-Аннибал доводит до абсурда многие центральные убеждения символистской эстетики. Такая карнавализация происходит «под маской»: она запрятана за формальными кулисами символистской эстетики и типичной для символизма мотивной системы. В повести также отсутствует открытое обсуждение значения центральных концепций символизма для женщин на тематическом уровне. В данной главе я покажу, что такая замаскированная дискуссия происходит на «подсознательном уровне» произведения. Изучение с этой точки зрения повести, по моему утверждению, обнаружит итоговые размышления автора над проблемой «женщина в модернизме».
В основе моей интерпретации и понимания «подсознательного» уровня художественного текста лежит литературоведческое применение психоаналитической теории о проявлении подсознательного на символическом уровне [389] Такое понимание лежит, например, в основе «Толкования сновидений» Фрейда. Важным примером применения психоаналитической теории к интерпретации художественного текста я считаю исследования Биргитты Хольм (Birgitta Holm), посвященные творчеству Сельмы Лагерлёф (Litteratur och psykoanalys 1986).
. Подсознательное выявляет себя с помощью перехода (transfer). В этом процессе психически значимая «вещь» «переходит», перемещается через смысловые поля и проявляется в какой-то, самой по себе незначительной детали. В таком процессе некое, важное для говорящего / пишущего значение появляется в «замаскированном» виде, как бы из другого места. С помощью перехода то, что подавлено, вытеснено из сознания в подсознание, находит дорогу в символический мир. Настоящая сущность перехода раскрывается по пути следования цепи ассоциаций.
В «Тридцати трех уродах» переход значения совершается в том месте текста, где содержится упоминание о картине, изображающей святую Агату. Интерпретация отрывка добавляет новые аспекты к той дискуссии, которую повесть ведет с символистской эстетикой. Дело в том, что картина святой Агаты, как я покажу ниже, является mise en abyme. Как утверждает Л. Делленбах, mise en abyme является миниатюрным воспроизведением целого произведения, ее метафиктивным самоотражением. Другими словами, mise en abyme представляет целое произведение в отдельном образе или абзаце текста. Часто этот элемент приобретает форму произведения искусства. Mise en abyme способен указывать на генезис произведения и сообщать информацию, связанную с вопросом о его авторстве. В художественном произведении mise en abyme функционирует именно как трансфер (переход) значения в психологическом процессе. Mise en abyme указывает путь, ведущий к более глубокому уровню, в пространство запрещенного или чужого (см.: Dällenbach 1989, 41–54, см. также: Weir 2002, хх-xxiv) [390] См. также: Ron М. The Restricted Abyss: Nine Problems in the Theory of Mise en Abyme // Poetics Today. 1987. Vol. 8. № 2. P. 417–438; Porter L. Internal Reduplication in Lyric Poetry // Proceedings of the 10 th Congress of the International Comparative Literature Association (1982) / Ed. A. Balakian, A N. Y.; London, 1985. P. 192–198.
.
Упоминание о картине со святой Агатой, mise en abyme повести «Тридцать три урода», содержится в отрывке текста, где рассказчица, будучи одна в квартире Веры, записывает свои чувства в дневник:
Плачу еще. Пишу и плачу.
Весь день лежала грудью в подушку.
Веры не было весь день. Ее где-то празднуют. Куда-то повезли.
Вдруг стало страшно.
Какая моя странная судьба! Я верю в судьбу.
Вспоминала картину-копию с какой-то итальянской картины, кажется св. Агата. Ей вырывают железом соски, и двое мучителей с таким любопытством одичалым заглядывают в глаза. А глаза Агаты блаженные, блаженные, блаженные.
Я часто молилась ей у бабушки, но с собой не взяла. Думала: у Веры все другое.
Теперь скучаю. Она бы утешила.
Мне страшно. От этого я села вот записывать. Так меня учила делать Вера, когда ее нет дома.
(1907, 26–27)В цитированном отрывке рассказчица записывает в дневник свои чувства и мысли. Ей было скучно, потому что не было Веры. Она вспоминает время, когда жила у бабушки, которая воспитала ее. В момент саморефлексии в ее мыслях появляется воспоминание о картине-копии святой Агаты. Картина-копия активизирует житие святой Агаты целиком. Житие св. Агаты, как я покажу ниже, изоморфно кульминационным событиям повести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: