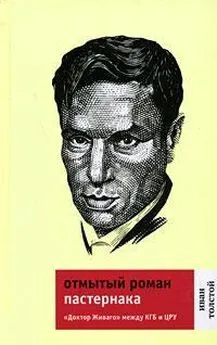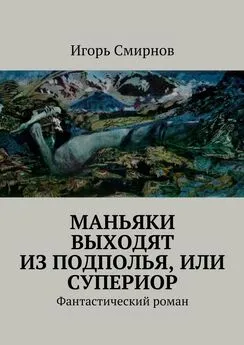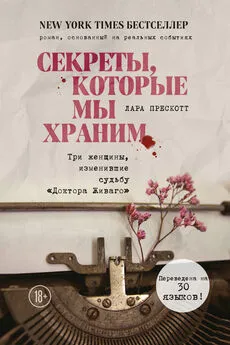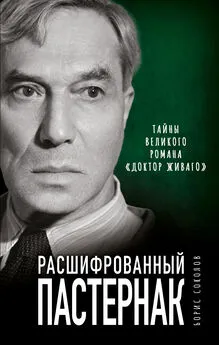Игорь Смирнов - Роман тайн «Доктор Живаго»
- Название:Роман тайн «Доктор Живаго»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-016-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Смирнов - Роман тайн «Доктор Живаго» краткое содержание
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.
Роман тайн «Доктор Живаго» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Мелюзеево привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях…
(3, 150)Наставление Руссо, касающееся того, что не нужно исправлять языковые ошибки ребенка, становится предметом тайной насмешки Пастернака, вменяющего Коле дурное владение французским, которому его пыталась выучить его наставница [156].
Вот как рассказывает Пастернак о Зыбушине:
Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат.
(3, 132–133) [157]Социальный эксперимент, произведенный в Зыбушине, напоминает историю еретических смут на юге Франции и в Италии, где в XI — начале XIV в. стало популярным движение катаров [158]. Учреждение «апостолата» перекликается с попыткой катаров вернуться к первохристианству, к жизни апостолов (via apostolica). Катары обобществляли имущество (что делает и Блажейко), избегали брака и отказывались от мясной пиши (упоминая при описании Зыбушинской республики Толстого, Пастернак возводит его мизогенность и вегетарианство к апостолической ереси) [159].
Идеологом Зыбушинской республики был глухонемой Клинцов-Погоревших. Коверкая русский язык, мадемуазель Флери называет его «глюконемой» (3, 135) и тем самым привносит в его наименование сему «сладкое» (ср. греч. «glykys»), которая содержится и в имени последнего предводителя апостольских братьев в Италии, Фра Дольчино (начало XIV в.) [160].
Крестовый поход, объявленный папой Иннокентием III против катаров, нашел свой отблеску Пастернака в как будто излишнем в плане сюжетосложения эпизоде изгнания ворвавшихся в Мелюзеево зыбушинцев «броневым дивизионом» (ср. закованных в броню рыцарей).
Выступление Устиньи («Она была родом зыбушинская», 3, 134) на митинге в Мелюзееве вкрапливает в роман еще один мотив из истории катаров:
Вот вы говорите, Зыбушино, товарищ комиссар, и потом насчет глаз, глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман […] А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать.
(3, 142)Кто, собственно, и в каком прошлом «колол глаза» зыбушинцам? Нарочитая неясность этого высказывания Устиньи заставляет предположить здесь пастернаковскую тайнопись, которая расшифровывается в контексте, связывающем зыбушинцев с катарами. После взятия одной из крепостей, где засели еретики, граф Симон де Монфор приказал выколоть глаза захваченным в плен.
Пленным катарам были нанесены и другие увечья (отрублены носы и т. п.). В стихотворном эпосе Ленау «Альбигойцы» («Die Albigenser», 1842), повествующем о подавлении еретического движения, речь идет, как и в романе Пастернака, только об ослеплении. Что «Альбигойцы» были одним из источников, которыми пользовался Пастернак, сопоставляя зыбушинцев и катаров, свидетельствует мотив липы, имеющий в «Докторе Живаго» ту же функцию, что и в поэме Ленау. Липа стучится во время бури в окно дома, где живет Юрий, думающий, что вернулась Лара; приведем еще раз, но в другом смысловом разрезе уже рассматривавшуюся цитату из романа:
В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары…
(3, 149)У Ленау липа, растущая около колодца (ср. мотив воды в «Докторе Живаго»), хранит в себе (тотемистическую) память об исчезнувшей (забитой камнями) женщине:
Am Brunnen steht sie noch, die Linde,
Die Zeugin einst so schöner Zeiten,
Sie läßt, bewegt vom Herbsteswinde,
Die Blätter leis hinutergleiten […]
Ach, wo versenkt mit allen Wonnen,
Giralda ruht, bedeckt von Steinen [161].
Как и при изображении Бирючей, Пастернак не ограничивается, рассказывая о зыбушинцах, отсылкой только к одной утопии. Он намекает на продолжение еретического утопизма катаров у Сен-Симона. Речь Устиньи, защищающей на митинге Зыбушинский апостолат, поддержанный дезертирами, являет собой сжатое изложение доктрины Сен-Симона:
…а между прочим, сами, я вас послушала, только знаете большевиками-меньшевиками шпыняться, большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и всё как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость.
(3, 142)Устинья неспроста отрекается от партийности (меньшевистской и большевистской) — ее пацифизм ведет свое происхождение не из ближайших политических доктрин, но из далекого источника, предсмертной брошюры Сен-Симона «Новое христианство» («Nouveau Christianisme», 1825). В этом сочинении католическая и протестантская церкви критиковались за их отход от первоначального апостольского христианства. Сен-Симон призывал людей к всеобщему «братству» (ср. идеал Устиньи: «…всё как между братьями…»), к филантропизму (сострадание бедным входит и в программу зыбушинской религиозной социалистки) и к установлению «вечного мира» на основе христианской морали (ср.: «А чтобы больше не воевать […] это называется по-божески…»).
Мелюзеево нейтрализует контраст между природным утопизмом и еретическими чаяниями, вбирает в себя и то и другое. Апостольское христианство (катаров и Сен-Симона) становится здесь (в изображении поддавшегося на утопический соблазн Юрия Живаго) явлением природного мира:
Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования».
(3, 145)2. Юрятин и Варыкино
(государственные утопии)
Урал выступает в пастернаковском романе как место, к которому привязываются скрытые отсылки к разного рода проектам идеального государства.
Юрятин вызывает в читательском сознании утопический урбанизм Кампанеллы. «Город Солнца» был, впрочем, использован Пастернаком уже при описании Мелюзеева [162]. Утопия Кампанеллы, объединившая в себе апостолическую ересь (жители Города Солнца берут себе в пример апостолов) и веру в возможность создания совершенного государства, служит Пастернаку перекидным мостиком, который пролагает смысловой путь, ведущий от глав о Западном фронте к уральско-сибирской части романа. Граждане Солнечного города собираются на Большой совет в полнолуние. Точно так же, в полнолуние, сходятся на митинг мелюзеевцы:
За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна […]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: