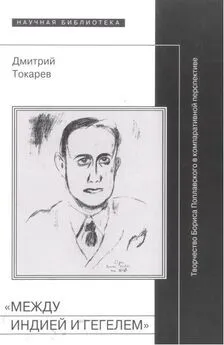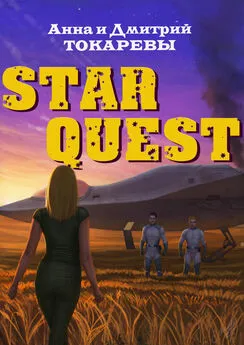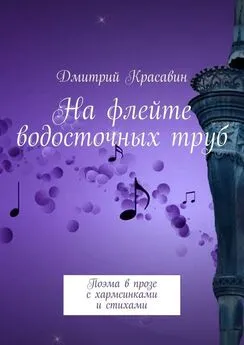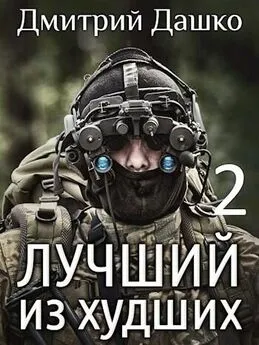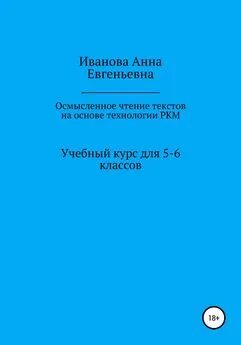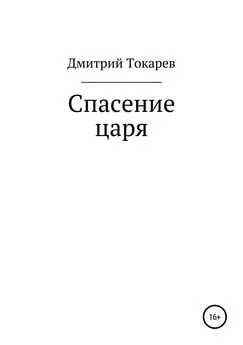Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
- Название:Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-172-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета краткое содержание
Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной «алогичности» мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного «бытия-в-себе» и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы «абсурдного» творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.
Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Успокойся, сядь светло
Это последнее тепло.
Тема этого событья
Бог посетивший предметы.
Настоящее «превращенье» начинается только тогда, когда Бог «посещает» предметы, когда материальный земной мир причащается идеальной реальности божественного тела. Тогда оживают предметы, останавливается время и зажигается «звезда бессмыслицы». Михаил Мейлах назвал то, что происходит в поэме Введенского, «двухступенчатой эсхатологической ситуацией» [402]. Данное определение действительно и для хармсовской «Лапы». Личная смерть может оказаться ненастоящей, она не разрушает ядра нашего существа, которое продолжает жить в роде. Именно поэтому персонажи хармсовской прозы кажутся бессмертными: смерть кого-нибудь из них ничуть не уменьшает общую массу бытия; на смену выбывшему приходит другой, похожий на него как две капли воды персонаж. В 1931 году Хармс напишет:
То то скажу тебе брат от колеса не отойти тебе
то то засмотрится и станешь пленником колеса
то то вспомнишь как прежде приходилось жить
да и один ли раз? может много
в разных обличьях путешествовал ты, но забыл все
вот смутно вспоминаешь Бога
отгадываешь незнакомые причины по колесу <���…>
Представители того «человеческого стада», которые населяют прозаические тексты Хармса, не помнят ничего, они поражены амнезией, и Бог для них не существует. Неудивительно, что помощи Хармс ищет у силы трансцендентной, у Бога, гнев которого должен «поразить наш мир» ( Псс—1, 292), привести его к концу.
Боже, теперь у меня одна единственная просьба к Тебе: уничтожь меня, разбей меня окончательно, ввергни в ад, не останавливай меня на полпути, но лиши меня надежды и быстро уничтожь меня во веки веков, — записывает Хармс в дневник в 6 часов 40 минут вечера 23 октября 1937 года.
Беккетовский герой также сомневается в «окончательности» смерти.
Повторения всегда действовали на меня угнетающе, — признается Моллой, — но жизнь, кажется, составлена из одних повторений, и смерть, должно быть, тоже некое повторение, я бы этому не удивился.
(Моллой, 65)Вообще, персонажи Беккета имеют странную способность к воскрешению: достаточно вспомнить об Уотте, который вновь появляется в романе «Мерсье и Камье», или о проходящих перед взглядом Безымянного призрачных фигурах героев предыдущих беккетовских произведений:
По правде говоря, я верю, что здесь собрались все, начиная с Мэрфи, — утверждает Безымянный, — я верю, что здесь мы все, но до сих пор на глаза попался только Мэлон.
(Безымянный, 322)Оговорка насчет того, что пока Безымянному на глаза попался только Мэлон (он же, возможно, Моллой), достаточно характерна. Действительно, вряд ли Безымянный мог увидеть Мэрфи, ведь Мэрфи, по сути единственному из персонажей Беккета (еще одно исключение составляет Белаква из сборника рассказов «Больше замахов, чем ударов»), удается достигнуть покоя небытия, того состояния «атараксии», в котором уже пребывают господа Эндон и Нотт. Не случайно Мерсье, в разговоре с Уоттом, вспоминает, что знавал некогда некоего Мэрфи, умершего при довольно странных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, подчеркивает Мерсье.
Залог освобождения от власти телесного в том, что Мэрфи, сам того не ведая, уподобляется господину Эндону, превращаясь в автономное, независимое от других существо. Как мы помним, Мэрфи так и не удалось установить контакт с Эндоном: всматриваясь в глаза Эндона, он видит в них собственное отражение, но при этом убеждается, что сам Эндон его не видит. Сартр, разработавший феноменологию взгляда, писал, что во всяком взгляде
обнаруживается другой-обьект в качестве конкретного и вероятного присутствия в моем перцептивном поле, и по поводу некоторых позиций этого другого я определяюсь в понимании через стыд, тревогу и т. д. своего «рассматриваёмого-бытия». Это «рассматриваемое-бытие» представляется как чистая вероятность того, что я в настоящем являюсь конкретным «это», вероятность, которая может получить свой смысл и саму природу вероятного только из фундаментальной достоверности, что другой для меня всегда присутствует, поскольку я всегда являюсь для-другого. <���…> Любой взгляд заставляет нас испытать конкретно и в несомненной достоверности cogito, что мы существуем для всех живых людей, то есть что есть (несколько) сознаний, для которых я существую [403].
Очевидно, что ситуация, описанная в беккетовском романе, никак не укладывается в концепцию Сартра: именно неуспех попытки установления контакта с Эндоном дает Мэрфи возможность не быть для других, не быть «я-увиденным», не выводить свое собственное существование из существования других, смотрящих на него [404]. Ему предоставляется возможность больше не быть этим, чья конкретность определяется взглядом другого. Господин Эндон не осознает себя ни в качестве объекта наблюдения, ни в качестве субъекта мысли; к такому же состоянию, сам того не сознавая, приближается Мэрфи. Он идет по дороге, ведущей в безымянное, безымянное, не отдающее себе отчета в своей безымянности. Собственно Безымянный, персонаж последнего романа трилогии, еще страдает от своей безымянности; путь Мэрфи лежит туда, где анонимность оборачивается небытием.
Покинув корпус, в котором находится господин Эндон, Мэрфи ложится на траву и пытается представить себе кого-нибудь из тех, кого он знал: отца, мать, свою бывшую любовницу Сэлию. Напрасно. Мир рушится, действительность распадается на не связанные между собой фрагменты.
Отдельные части тел, пейзажей, рук, глаз, линий, цветов, которые всплывали и исчезали перед ним, как будто прокрученные на укрепленной где-то на уровне горла бобине, не находили никакого отклика в его памяти.
(Мэрфи, 180)Внешний мир для Мэрфи больше не существует, зато из глубин его памяти встает исполненный глубокого символизма образ младенца Христа, застывшего в ожидании ритуального ножа. Образ этот запечатлен на картине Джованни Беллини «Обрезание» [405], которую сам Беккет видел неоднократно в Национальной галерее в Лондоне. Ожидание ножа — это также ожидание смерти, ожидание умаления, редукции телесного. Не случайно следующий образ, встающий перед его внутренним взором, — это выдранные у кого-то (а это не кто иной, как господин Эндон) глаза. Не видя ничего вокруг себя, Эндон слеп, и «общение» с ним делает слепым также и Мэрфи.
Но «ослепление» — это уже второй этап преодоления телесности, первый же — это самообнажение, освобождение от условностей, накладываемых обществом. Вспомним, что любимое занятие Мэрфи до того, как он поступил санитаром в психиатрическую лечебницу, заключалось в раскачивании обнаженным в кресле-качалке; так же поступает он и сейчас: прежде чем попытаться воскресить в своей памяти образы отца, матери, Сэлии, он снимает с себя всю одежду, возвращаясь к исходному для всякого человека состоянию наготы. Не приходится удивляться, что попытка Мэрфи с самого начала обречена на провал: оставшись обнаженным, он утрачивает связи с внешним миром, перестает быть не только санитаром по фамилии Мэрфи, но и просто Мэрфи. Мэрфи становится «человеком без свойств», человеком без имени, без прошлого, а значит и без будущего. Самого Мэрфи, кстати, такая перспектива страшит, поэтому он решает вернуться в свою мансарду и для успокоения покачаться в своем кресле. Однако как будто какая-то сила, сила внутреннего перерождения, влечет его к окончательному растворению в ничто, в пустоте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: