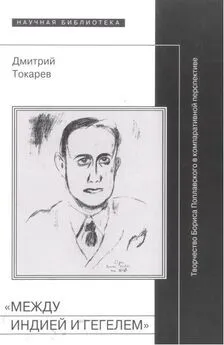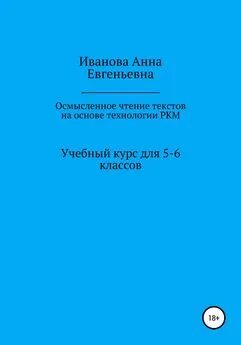Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
- Название:Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-172-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета краткое содержание
Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной «алогичности» мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного «бытия-в-себе» и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы «абсурдного» творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.
Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Важно, что существует прямая связь между эволюцией языка и постепенным превращением материи из неорганической в органическую, из жидкой в твердую. Леонид Липавский посвятил процессу образования значений трактат «Теория слов» (1935). Исходная идея трактата — то, что согласные являются «семенами» слов, — заставляет вспомнить о языковых теориях Велимира Хлебникова. «Сколько было согласных, столько образовалось и первых, исходных слов», — утверждает Липавский ( Чинари—1, 254). При этом одно из семян слов стало «смыслоутверждающей частицей, как бы всеобщей печатью языка, которая прикладывается ко всем остальным семенам слов и, становясь вторым их слогом, свидетельствует об их зачислении в настоящие слова» ( Чинари—1, 255; в русском языке такой частицей, по мнению философа, было «ти»). Если верить Липавскому, история значений насчитывает несколько стадий, которым соответствуют основные мировые элементы: воздух, вода и земная твердь. На первой стадии создаются, за счет преодоления сопротивления воздуха, исходные значения, на второй — они проецируются на жидкость (с тех пор в языке существуют собирательные существительные, безличные выражения и неопределенное наклонение глагола), на третьей — в результате мускульного усилия, необходимого для создания предметов, проекция на жидкость сменилась проекцией на вещи, действия и свойства. Весь процесс в целом Липавский называет «вращением». Для нас особый интерес представляет его вторая, «водяная» стадия, которая характеризуется «густотой, растеканием, течением бурным или спокойным, обволакиванием и захватыванием потоком, выпрыскиванием и т. п.» ( Чинари—1, 266). Не случайно, рассуждает Липавский, слова «речь» и «река» являются в русском языке однокоренными; к тому же мы говорим «плавная, текучая речь» и «в течение времени».
При проекции на жидкость еще не существует ни частей речи, ни залогов, ни числа, ни рода. Речь льется как водяной поток, ее основная характеристика — текучесть. Мы помним, что понятие текучести играло важную роль в хармсовской поэтике; но не стоит забывать и о том, что
желание писать текуче отвечает тому же стремлению вернуться к первозданному состоянию языка, ко времени, предшествовавшему делению мира на предметы и действия (части речи) и отношению субъект — объект (грамматические отношения), ко времени без количества, без чисел — к вечности.
(Жаккар, 172)Такой не разделенный пока еще на части мир может быть выражен только с помощью заумного языка, языка, в основе которого — принципиальное неразличение субъекта и объекта речи, говорящего и слушающего. На таком языке изъясняется господин Нотт, такой язык пытались создать русские поэты-заумники, такому языку угрожает, как мы уже убедились, превращение в однородную, вязкую массу. Угроза эта весьма реальна, ведь тот, кто хочет говорить и писать текуче, неизбежно вовлекается в водоворот «противоположного вращения».
Похожая идея содержится в статье «Рот», опубликованной Жоржем Батаем в 1930 году в журнале «Докюман» [498]. В ней Батай противопоставляет вертикальную ось, соединяющую глаза и рот и непосредственно связанную с порождением речи, оси горизонтальной, или биологической, соединяющей рот и анус. Отношения между двумя осями определяются тем, что можно назвать «вращением».
Опускание психической или духовной оси на уровень оси биологической влечет за собой, — разъясняет Р. Краусс, — трансформацию членораздельных звуков в звуки животные, напрямую связанные с выделительной функцией организма; эта трансфермация имеет место тогда, когда человек испытывает чрезвычайно сильное удовольствие или чрезвычайно сильную боль [499].
Получается, что ослепление, которое Беккет считает необходимым условием возвращения в материнское лоно, ведет к сращиванию выделительной и речепроизводной функции. Рот уподобляется анусу — или же вагине; в пользу второго варианта говорит помещенная в том же номере журнала «Докюман» фотография Ж.-А. Буаффара, изображающая широко открытый и наполненный слюной рот. Огромный, висящий над темной сценой, исторгающий бессвязные слова Рот в пьесе Беккета «Не я» кажется буквальной реализацией батаевской идеи.
Слюна кипит, пузырится на губах, растекается по ним аморфной, неконцентрированной массой. Слова, исторгаемые залитым слюной ртом, не могут не быть бессвязными; в одном из прозаических текстов Хармса именно пузыри служат прямой причиной языковой деформации.
Из коробки вышли какие-то пузыри. Хвилищевский на цыпочках удалился из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. «Черт с ней!» — сказал себе Хвилищевский. «Меня не касается, что в ней лежит. В самом деле! Черт с ней!» [500]
Хвилищевскому хочется крикнуть «Не пущу!», но язык как-то подворачивается и выходит «не пустю». Согласно М. Ямпольскому, речь в данном случае как бы имитирует саму форму пузыря, ведь при произнесении звука «у» губы складываются в кружок. «Даже то, что язык „подворачивается“, вводит в движение языка верчение, круг», — продолжает свою мысль исследователь ( Ямпольский, 216). Пустота, зияние покрытого пеной рта не может не внушать ужас; так круг, эта «наиболее совершенная», по словам Хармса, фигура, вновь обретает негативные коннотации, связанные с невозможностью назвать то, что выходит за рамки органической жизни.
4. Остановка И/истории
В тридцатые годы в мировоззрении Хармса наступает радикальный перелом: смерть больше не связывается с очищением и мыслится отныне как окончательное возвращение к тому времени, или, точнее, к его отсутствию, когда мир еще не был создан Богом. Но возвращение в небытие невозможно без возврата в материнскую утробу, то есть без уничтожения собственного тела, отмены не только своего собственного рождения, но и рождения мира. «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением» [501], — написал Хармс в 1933 году в письме к К. Пугачевой. Вскоре мечты о стихах не менее реальных и конкретных, чем предметы объективного мира, уступят место тексту, в котором слова поэта об искусстве, создающем и одновременно отражающем мир, получат новое, трагическое содержание: так возникнет проза, которая не только будет отражать загрязненный мир повседневного существования, но и будет сама генерировать его, стирая грань между реальностью мира и реальностью текста. Писатель оказывается в той ситуации, когда для того, чтобы уничтожить мир, необходимо уничтожить текст. Для того же, чтобы уничтожить текст, писатель вынужден создать текст об уничтожении текста; такой текст об уничтожении текста всю свою жизнь писал Сэмюэль Беккет.
У Хармса тоже есть такой текст-«самоубийца» — это «Голубая тетрадь № 10», открывающая цикл «Случаи». Его герой поразительным образом напоминает Безымянного:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: