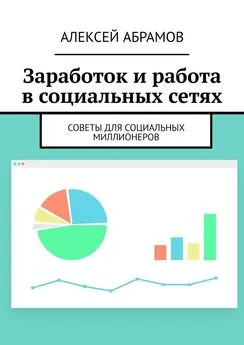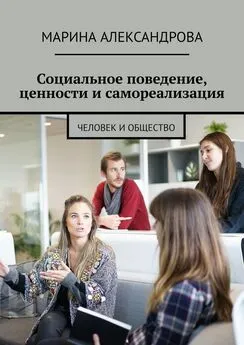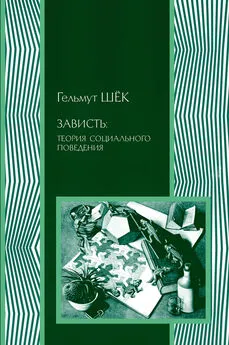Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение
- Название:Инстинкт и социальное поведение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение краткое содержание
Инстинкт и социальное поведение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, у государственной власти – даже у монархической власти – не было недостатка в защитниках. Философ Гоббс защищал ее как неизбежное зло, предотвращающее худшее зло – анархию. Мы еще встретимся с этим аргументом. В первом издании главного сочинения Гоббса, книги под названием «Левиафан», можно видеть картинку, изображающую государство в виде великана, тело которого составлено из крошечных человеческих тел. Левиафан все еще выполняет свои функции, но потерял уже всякое уважение. Другой популярный образ государства – это муравейник, тоже большая машина, составленная из маленьких живых существ. Но муравьи, должно быть, хорошо себя чувствуют в своей машине; во всяком случае, они никогда не бунтуют против нее и проявляют свойственную им резвость. А Левиафан на картинке кажется склеенным из трупов.
3. Частная собственность
Важнейшей сословной привилегией была частная собственность , возникшая во всех достаточно развитых культурах. Частная собственность – это фиктивная (или, как обычно говорят, "юридическая») связь между человеком и вещью, которая считается «принадлежащей» ему, то есть которой он может распоряжаться по своему желанию – в пределах, установленных его культурой. Важные механизмы культуры, усваиваемые в детстве и определяющие поведение человека в течение всей жизни, рационализируются объясняющей и оправдывающей их мифологией. Мифы о «благородном» происхождении феодальных господ придавали респектабельность их притязаниям на власть и их правам на собственность. В действительности они обычно происходили от варваров-завоевателей: средневековые документы откровенно основывают феодальные права на захвате, а потом на «давности владения». «Благородное происхождение», еще в девятнадцатом столетии принимавшееся всерьез, теперь никого не интересует. Но институт собственности по-прежнему считается священным и пользуется уважением, потому что буржуазия одержала верх над аристократией, и поскольку буржуазия основывает свою власть не на происхождении, а на собственности.
Нам говорят, что собственность существовала вечно, но это неправда; верно, что она существовала долго, примерно так же долго, как другое священное установление – сословное неравенство, которого больше нет, и никто даже не замечает, что его нет . Нам говорят, что собственность священна, потому что приобретается трудом. Этот довод прямо противоположен предыдущему, потому что труд меньше всего уважали господа прошлых исторических эпох: они презирали все виды труда и гордились тем, что им не приходится трудиться. Те, кто ссылается на древность института собственности, забывают, что источником такой собственности был не труд, а грабеж.
С точки зрения философии гуманизма, собственность, в самом деле приобретенная личным трудом, действительно заслуживает уважения. Вопрос состоит в том, какие формы собственности преобладают в нынешнем мире, и всегда ли она происходит от собственного труда . Этот важный вопрос мы рассмотрим дальше.
Наконец, в защиту собственности выдвигается еще «биологическая» аргументация, претендующая на некоторую научность. Нам говорят, что привязанность человека к собственности инстинктивна, то есть составляет неотъемлемое свойство нашего вида, и что стремление к собственности – единственный мотив, заставляющий людей работать. Поэтому,– говорят нам,– уничтожение связи между трудом и частной собственностью убивает заинтересованность в труде и ведет к развалу нашей экономической системы.
Так как мы занимаемся в этой главе происхождением собственности, отложим на некоторое время мрачные предсказания, которыми нас запугивают апологеты «рыночной экономики», и займемся прошлым. Привязанность человека к своей собственности чаще всего демонстрируется отношением крестьянина к собственной земле, столь красноречиво описанным в замечательной книге Мишле «Народ». Теперь эта привязанность к собственному участку земли иногда выводят из инстинкта внутривидовой агрессии, причем этот участок отождествляют с «охотничьими участками» хищников, как их понимает Лоренц. Но, прежде всего, приматы, от которых мы происходим, были территориальными животными не в том смысле, как человек, владеющий земельным участком. Из наблюдений над шимпанзе, на которые мы уже ссылались, видно, что их стадо «владеет» довольно обширной территорией, где они бродят в поисках пищи, но владеет ею коллективно , так что отдельная обезьяна не имеет постоянного логова или укрытия. То же справедливо в отношении других приматов, у которых нет, к тому же, постоянного брака, в отличие от большинства территориальных хищников. Историки показали, что старейшая собственность – собственность на землю – вначале была везде общинной . Индивидуальная собственность на землю – довольно позднее культурное явление, а привязанность крестьянина к его земле лишний раз доказывает силу культурной мотивации человеческого поведения, часто не уступающую инстинктивной.
Несомненно, вначале земля принадлежала не отдельным лицам, а племени, и обрабатывалась коллективным трудом. Наиболее известный пример такой древнейшей формы общинного землепользования представляют индейцы пуэбло, до сих пор многочисленные в Мексике и в юго-западной части Соединенных Штатов. В течение тысячелетий они жили племенными общинами, не зная частной собственности и денег: такими их застали испанские завоеватели. Они не заинтересованы в товарном производстве и выращивают столько зерна (кукурузы), сколько им нужно для пропитания. Образ жизни этих племен (испанское название которых означает «народ») привлекал внимание не только этнографов, но и социалистов; их изучал, например, известный психолог и социолог Эрих Фромм. В таком общественном строе социалистов привлекали отсутствие корыстных мотивов и коллективизм психических установок. Но в таких племенах нет побуждений к развитию: индеец пуэбло лишен честолюбия и духа соревнования, у него нет личных целей, а у племени – общественных целей. Это общество статично: оно сохраняет в течение тысячелетий свою племенную культуру, свой религиозный культ и примитивную технику производства.
Такое общинное хозяйство могло сохраниться в чистом виде лишь в пустынях, на обочине мировой истории. В более цивилизованных местах на общинный образ жизни наложилось помещичье землевладение, под покровом которого он сохранял свои особенности до наших дней. Так было в Индии, где после вторжения завоевателей землю разделили между собой феодалы, наложившие на крестьян оброк, но оставившие неизменным весь строй их жизни и хозяйства. В таком виде индийская община оказалась чрезвычайно стойкой: ее разрушает лишь современный капитализм. Еще в девятнадцатом веке Генри Мейн мог изучать в Индии правовые нормы и обычаи индоевропейцев, описанные им в его книге «Древнее право» (H.J.S. Maine, The Ancient Law).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Мэтью Джексон - Человеческие сети [Как социальное положение влияет на наши возможности, взгляды и поведение]](/books/1061636/metyu-dzhekson-chelovecheskie-seti-kak-socialnoe-po.webp)