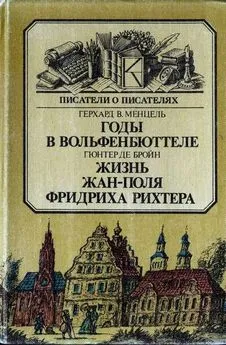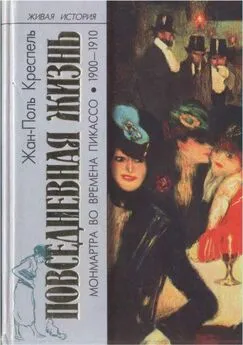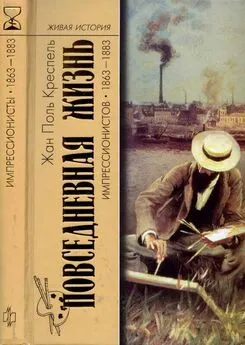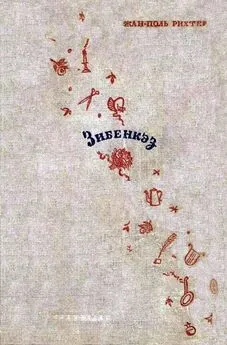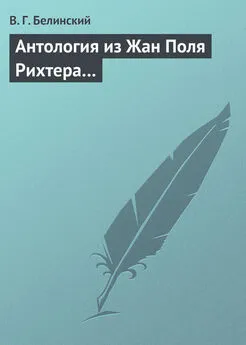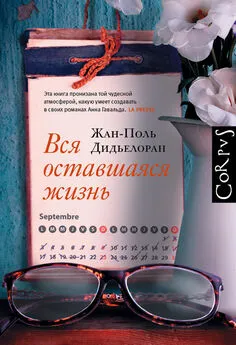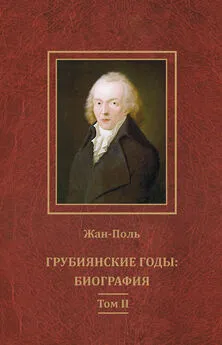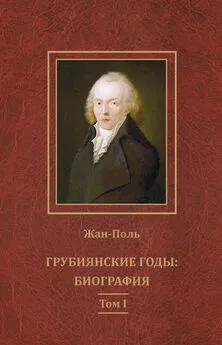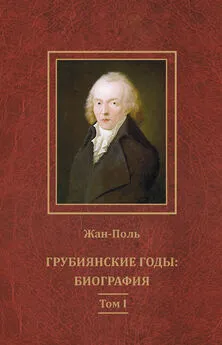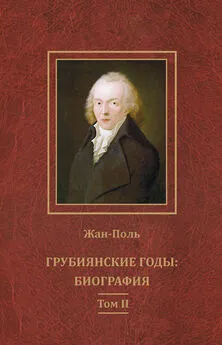Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
- Название:Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера краткое содержание
Два известных современных писателя Германии — Герхард Вальтер Менцель (1922–1980) и Гюнтер де Бройн (род. 1926 г.) — обращаются в своих книгах к жизни и творчеству немецких писателей прошедших, следовавших одна за другой, исторических эпох.
В книге рассказывается о Готхольде Эфраиме Лессинге (1729–1781) — крупнейшем представителе второго этапа Просвещения в Германии и Жан-Поле (Иоганне Пауле) Фридрихе Рихтере (1763–1825) — знаменитом писателе, педагоге, теоретике искусства.
Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
32
ДЕРЕВЦО СВОБОДЫ
По сравнению с тем, что совершил домартовский период в области цензуры, практика XVIII века кажется детской игрой, а XX век достиг в этом вопросе (прежде всего в фашистской Германии) такого совершенства, какое и в самых прекрасных снах не снилось цензорам XIX века. Будем надеяться, что и у грядущих столетий останется такое же впечатление о нашем, какое сохранилось у нас о цензуре минувших веков: какую бы докучливую помеху она ни являла собой для своего времени, в конечном счете она всегда оказывалась безрезультатной. История цензуры в Германии — это история ее бессилия, она лишь подчеркивает силу написанного слова. Потомкам цензурный чиновник всегда кажется дураком, который пытается голыми руками сдержать поток, и свод запрещенных книг — это свод курьезов. То, что вызывает отчаяние у современников, у потомков вызывает смех.
Во все времена книги, представляющие опасность для властителей, запрещались и сжигались (иной раз вместе с их авторами). Но учредить цензуру официально пришлось лишь после изобретения книгопечатания. В христианской Европе первыми это сделали папы, чтобы спасти устаревшее представление о мире, спасти которое было уже невозможно. Это они придумали Catalogus Librorum Prohibitorum, каталог запрещенных книг, который, вероятно, ведется еще и поныне. Затем в течение столетий запретом книг ведал только клир: духовной пищей ведало духовенство. Так обстояло дело и в Священной Римской империи германской нации. Это изменилось, когда буржуазия заявила свои претензии на политическую власть и не только создала собственную идеологию, но стала год от года вводить в действие все больше печатных машин, которые быстро снабжали растущие массы читателей литературой. Лишь тогда государственные власти начали серьезно ограждать себя цензурой от истинной или мнимой литературной опасности. Сперва цензурные поручения выполнялись университетскими факультетами или отдельными учеными, которые получали за это вознаграждение. Но в конце XVIII века, когда издательское дело (а вместе с ним и книготорговля) совершило скачок в развитии, а Французская революция посеяла панику, власти поняли, сколь полезны цензурные центры, под коими подразумевались центры не рейха, а отдельных государств, в данном случае — к счастью для литературы. Ибо хотя все они стремились к одному и тому же, а именно к подавлению новых идей, делали они это различными методами и в разной мере, так что между множеством оградительных стеночек, возводимых каждым земельным князем, существовало и множество лазеек; так было даже в самые скверные времена — в период после революции.
До тех пор в состязании цензоров на свирепость первенство держали католические страны, в особенности Австрия и Бавария. Лишь в девяностых годах временно в первый ряд выдвинулась Пруссия, но после отмены религиозного эдикта она снова откатилась назад, так что Жан-Поль мог считать ее сравнительно дружелюбной по отношению к литературе. Когда он говорит о суровости цензуры, он чаще всего имеет в виду венскую цензуру, которая запретила даже «Геспера». Венские власти испытывали двойной страх: к существовавшему во всех государствах страху перед новыми общественными идеями прибавился (двести лет назад) и страх перед Реформацией.
В Австрии цензура епископов и иезуитов была уже в 1753 году заменена центральной государственной Комиссией книжной цензуры. В 1765 году появился первый каталог запрещенных книг, который вместе с дополнениями скоро стал незаменимым указателем для собирателей эротической литературы. Но по нему хорошо видно и другое — то новое, что создала эпоха Просвещения в Европе. Этот полезный, хотя и неудобный для пользования библиографический указатель (к 1780 году он разбух до тридцати восьми фолиантов) привел главным образом к тому, что торговля запрещенными книгами резко увеличилась. Потому его перестали печатать, знакомя с ним чиновников лишь в рукописном виде.
Такое, подобное бумерангу, действие запретов всегда доставляло много хлопот цензорам. В вышедшей в 1775 году брошюре под названием «Цензор» проблема сформулирована так: «Можно быть вполне уверенным: ни одна книга, ни одно сочинение не привлечет покупателя так, как те, о которых сообщается в газетах, что их запрещено продавать под угрозой значительного денежного штрафа, ибо читатели сразу же догадываются — в них написана правда, иначе бы их не стали конфисковать». Говорят, будто оборотистый издатель Эттингер в Готе призывал своих авторов написать что-нибудь запретное, а в Лейпциге рассказывали, что книготорговец нанял цензора для тайной рекламы: за шесть дукатов он должен был конфисковать лежалый товар. Поэтому Вюрцбургский цензорский эдикт 1792 года предписал: «Если будет сочтено, что произведение подлежит запрету, запрет не следует предавать гласности». Но и это не помогло, ибо в интересовавшихся литературой кругах превосходно действовала система устной информации. И посему вюртембергское правительство предложило в 1795 году: не налагать запрета на революционные брошюры, а скупать их по розничной цене; но финансовое управление на это не согласилось. Авторам австрийского каталога запрещенных книг, стремившимся управлять мыслями, пришла в голову собственная грандиозная мысль: они включили в сей каталог самый каталог. И таким образом этот позорный символ подавления культуры оказался (как и в 1793 году в Баварии) в незаслуженно хорошем обществе. Ибо в нем были представлены не только все Просвещение Англии, Франции, Германии и все сочинения о Французской революции (включая контрреволюционные), но и Гомер, Вергилий, Овидий, Лютер, Эразм, Эйленшпигель, Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд, Кампе, Музеус, «Всеобщая немецкая библиотека», «Берлинский ежемесячник» и все, что было написано на тему «любовь к родине»: понятия «любящий родину» или «патриот» считались в то время синонимами «революционера». Даже «Ксении» не пощадили от запрета, хотя одну из них, касавшуюся венской цензуры, Гёте не опубликовал:
Одно лишь мне будет досадно: если мои стишата
Не увенчает запретом цензура Вены.
Другая проблема цензуры состояла в том, что вместе со знаниями, которые считали вредными, исключали полезные и необходимые государству: стены, правда, защищают, но они же лишают обзора. Единственное решение этой дилеммы всегда одно и то же: к уже имеющимся привилегиям прибавить новую — привилегию информации. То, что запрещено одному (в Баварии за одно лишь чтение запрещенных книг налагался штраф от двадцати пяти до ста рейхсталеров), разрешено другому. В Австрии просьба о выдаче запрещенной книги звучала в лучшем кайзерско-королевском официальном стиле примерно так: «Нижеподписавшийся обращается в кайзерско-королевское придворное полицейское ведомство с просьбой о выдаче запрещенной и задержанной книги… для своего единоличного пользования и дает под страхом судебной ответственности поручительство в том, что он ни в коем случае никому другому не предоставит указанную книгу ни для чтения, ни во владение».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: