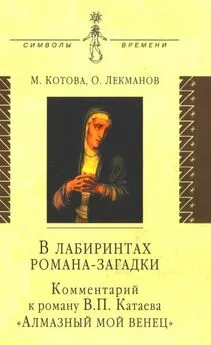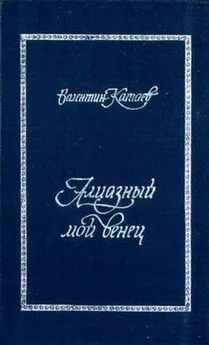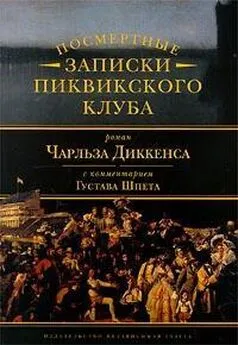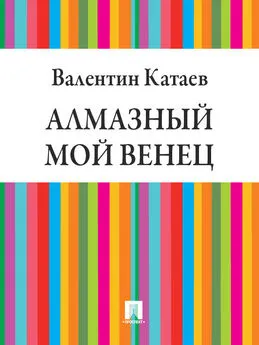Мария Котова - В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец»
- Название:В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:57784-0271-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Котова - В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец» краткое содержание
С момента первой публикации мемуары В. П. Катаева вызвали яростные споры, которые не утихли до сих пор и которые авторы книги пытаются разрешить в рамках академического комментария. М. А. Котова и О. А. Лекманов не ограничиваются объяснениями «темных» эпизодов романа Катаева «Алмазный мой венец», они тщательно воссоздают литературно-бытовой контекст эпохи, поэтому Комментарий можно рассматривать и как обстоятельное введение в историю советской литературы 1920–1930-х годов. Распутывая хитросплетения романа, авторы привлекают множество архивных, газетных и малоизвестных мемуарных источников.
В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
648. Он сказал по своему обыкновению:
— Я стар и тяжело болен.
На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось сердце. — Ср. с описанием одной из последних встреч М. Булгакова с К. из дневника Е. С. Булгаковой (запись от 25.3.1939 г.): «Вчера пошли вечером в Клуб актера на Тверской <���…> Все было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Пете сказал, что он написал барахло, а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. — „Валя, вы жопа“. Катаев ушел мрачный, не прощаясь» (Дневник. С. 417). В сентябре 1939 г. Булгакову был поставлен страшный диагноз — гипертонический нефросклероз. В заключении врачебного консилиума от 12.11.1939 г. было сказано: «Гражданин Булгаков М. А. страдает начальной стадией артериосклероза почек при явлениях артериальной гипертонии» (Дневник. С. 551). Врач Булгаков знал о том, что его болезнь неизлечима. 10.10.1939 г. он составил завещание в пользу Е. С. Булгаковой.
649. — К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого, — сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды.
Мы чокнулись и отпили по глотку.
Он с достоинством нес свою бедность. — В дневнике Е. С. Булгаковой нет никаких намеков на стесненное денежное положение семьи Булгаковых в последние годы жизни Михаила Афанасьевича. Напротив, здесь много говорится об ужинах в писательском ресторане, о том, как из театрального буфета Булгаковым присылали икру, сыр, конфеты, яблоки и т. п. (Дневник. С. 460–461).
650. — Я скоро умру, — сказал он бесстрастно.
Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, — убеждать, что он мнителен, что он ошибается. — Мемуаристы отмечали, что в последние месяцы своей жизни М. Булгаков держался мужественно, но иногда с тоской говорил о том, что умирает. 10.11.1939 г., «проснувшись в 4 часа ночи, он сказал жене: „Чувствую, что умру сегодня“» (Чудакова 1988.С. 472). Ср. также в воспоминаниях А. М. Файко о последнем разговоре с Булгаковым: «„Я умираю, понимаешь?“ Я поднял руки, пытаясь сказать что-то. „Молчи. Не говори трюизмов и пошлостей. Я умираю. Так должно быть — это нормально“» ( Файко А. // О Булгакове. С.352) и в письме Булгакова к А. П. Гдешинскому от 28.12.1939 г.: «Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я <���из „Барвихи“. — Коммент.> умирать» (Цит. по: Дневник. С. 458). Ср., однако, в письме О. С. Бокшанской к своей матери от 28.12.1939 г.: «…Мака-то ничего, держится оживленно, но Люся <���Е. С. Булгакова. — Коммент.> страшно изменилась: <���…> в глазах такой трепет, такая грусть» (Цит. по: Чудакова 1988. С. 477).
651. — Я даже вам могу сказать, как это будет, — прервал он меня., не дослушав. — Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже.
Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова… — Булгаков умер 10.03.1940 г. Тело его было кремировано. Е. И. Габрилович вспоминал «вынос тела по стертым, узким, надстроечным ступенькам» ( Габрилович Е. // О Булгакове. С. 346). См. также в мемуарах С. А. Ермолинского, который свидетельствовал, что перед похоронами Булгакова «много народу перебывало в квартире. Меньше всего было литераторов <���…> в те траурные дни заходили попрощаться к нему не только его близкие знакомые, но и неведомо кто, и было тесно в доме. <���…> А когда его гроб перевезли в Союз писателей, оказалось, народу совсем немного. <���…> К вечеру собралось людей побольше. Было тихо. Музыки не было. Он просил, чтобы ее не было» ( Ермолинский С. // О Булгакове С.482). Подробное описание похорон Булгакова можно найти в письмах О. С. Бокшанской своей матери А. А. Нюренберг, но и в них нет упоминаемого К. эпизода (Письма. С. 493–496). О драматурге Борисе Сергеевиче Ромашове (1895–1958) подробнее см., например, в одной из записей Ю. Олеши (Олеша 2001. С. 232).
652. Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы перекрученное на манер бургундского тирбушона-штопора. — То есть штопора, похожего на тирбушон (прядь волос, завитую в локон).
653. … как бы перевитое лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна. — В том же году, когда состоялась первая публикация «АМВ», в Вене было напечатано обширное исследование: Ziegler R. Aleksej Krucenych als Sprachkritiker // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien, 1978. S. 286–310.
654. Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат. — Речь идет об Ольге Всеволодовне Ивинской.
655. Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока наконец не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали.
Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке. «… Без шапки и шубы <���…> До чего ж на меня похож!..» — Из поэмы В. Маяковского «Про это» (1923), которую К., как и другие стихи Маяковского, цитирует в «АМВ» на удивление точно.
656. Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стране парка Монсо увидели фигуру щелкунчика.
Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих. — Аллюзия на следующие строки из ст-ния О. Мандельштама «Жизнь упала, как зарница…» (1924): «Есть за куколем дворцовым // И за кипенем садовым // Заресничная страна — // Там ты будешь мне жена. // Выбрав валенки сухие // И тулупы золотые, // Взявшись за руки, вдвоем // Той же улицей пойдем».
657. Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах слова-психеи. — Отсылка к следующему фрагменту мандельштамовского эссе «Слово и культура» (1921): «Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело» (Цит. по: Мандельштам. С. 171).
658. Может быть, таким образом рождались стихи: «…Есть иволги в лесах <���…> и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты…» — Неточно цитируется ст-ние О. Мандельштама «Есть иволги в лесах, и гласных долгота…» (1914).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: