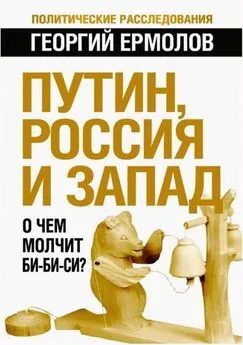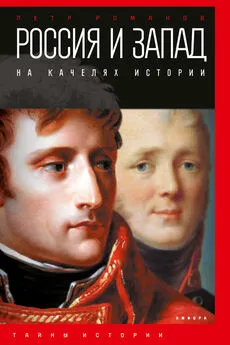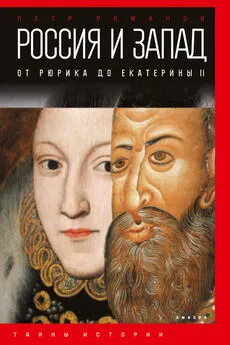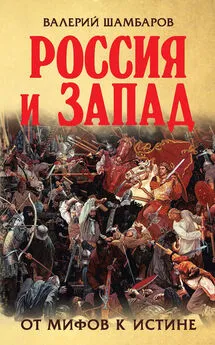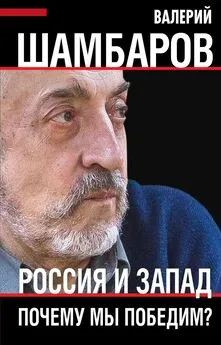Михаил Безродный - Россия и Запад
- Название:Россия и Запад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-917-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Безродный - Россия и Запад краткое содержание
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Россия и Запад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все же поэт торжествует. Пускай беда гонится за ним по пятам, пускай клеветники строчат пашквили и доносы, пускай вся жизнь дика и мутна, как горячечная ночь в грязной харчевне при размытой дороге, пускай, как в дурном сне, преграды — карантины без числа — не дают добраться до счастья, пускай последняя копейка проиграна в штосс проезжему офицеру, пускай Бенкендорф оскорбительно брюзжит и Бог весть с кем кокетничает беременная жена, и так тяжело жить, что только и можешь вздыхать: «Тоска, тоска…», и тянет куда-нибудь подальше, и как завидно делается, когда проводишь Вяземских на пироскаф — а там запрещенный Запад, театры Парижа, чугунныя дороги Англии, но не все ли равно? Неотразимыя обиды отступают, как только вместе с деревенским дождиком начинают накрапывать стихи.
«Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…»: вот, пожалуй, две самых колдовских, самых таинственных строки, когда-либо им написанных. Есть еще, впрочем, тот песчаный и пустой брег, который мреет в том же прологе к «Руслану» и как бы проясняется через три года в «Сказке о Царе Салтане» — брег, на который набегают волны, разливаются в шумном беге, и вот очутятся на бреге, чешуей, как жар, горя, тридцать три богатыря. И тот же Пушкин, обладавший таким чувством сказочности, чувством русских чудес, был строгим летописцем, испытывал глубокое тяготение к отечественной истории, которую писал таким простым и ясным слогом, каким не владел никто. Проза его романов, повестей, критических заметок — это проза петербургская, стройная и прозрачная, сильно отличная от слога его писем, полных необузданной образности, великолепнаго юмора, неги и гнева. Он легко сбивался на стихи посреди письма или рассказа, ибо все-таки природной его стихией была поэзия. «Граф Нулин», «Борис Годунов», «Пир во время чумы», «Для берегов отчизны дальней…» — какие все различные образцы его несравненнаго искусства…
И снова возвращается мысль к погибельной его судьбе, к быстротечности его жизни, и хочется предаться пустой грезе — что было бы, если бы… Что было бы, если бы и эта дуэль окончилась благополучно… Можем ли представить себе Пушкина седым, с седыми бакенбардами, Пушкина в сюртуке шестидесятых годов, степеннаго Пушкина, стараго Пушкина, дряхлаго Пушкина? Что ждет его на склоне лет: мрачные тени бесталанных Писаревых и Чернышевских или, быть может, прекрасная дружба с Толстым, с Тургеневым? Но есть что-то соблазнительное и кощунственное в таком гадании… Немыслим образ Пушкина без пушкинских тревог и творений — а какими творениями можем мы за него заполнить оставшиеся полвека возможной его жизни? Он был в полдневной силе своих лет, когда умер, и гений его обещал еще многое. Но свершил он довольно. Его умолкнувшая лира подняла в веках гремучий непрерывный звон. Пушкинским духом проникнуты лучшие стихи поэтов сменивших, но не заменивших его, Лермонтова и Тютчева, Фета и Блока. И однако в словах невыразим этот пушкинский дух… Стройность, ясность, соразмерность, полнота звуков, полнота бытия? Не то, не то. Ярлыки опасны. И тот, кто видит в Пушкине лишь олимпийскую лучезарность озадачен иной его смутной и горькой строкой. Пушкинский дух также неопределим, как русский дух. Не тот русский дух, до которого столь охоч иностранец, не пресловутые бездны, падения и взлеты, вся эта подозрительная акробатика, чарующая чужих, а нечто другое, поглубже и поважнее для нас. В посредственных переводах Пушкин кажется просвещенному иностранцу певцом не просто России, а певцом европейской России, и тем самым лишен для него обаяния… Русским лучше знать. Русские знают, что понятия Отечество и Пушкин неразрывны, что быть русскими или русскими американцами значит любить Пушкина.
При одной мысли о нем как бы развивается перед нами чудесный свиток, нарастает издалека гул его стихов, и невозможно не заслушаться, невозможно воспротивиться блестящей волне его гения. Как и он сам забывал горечь обид, тоску и холод скитальческой жизни, как только набегало на него вдохновение, так и мы, вспоминая, перечитывая его стихи, легко побеждаем в себе дурное чувство безнадежности, возбуждаемое в нас порою размышлениями о судьбах родины. Та мудрость, которую заключает в себе прекрасное, непогрешимая мудрость красоты, заражает нас новой силой. После пушкинских стихов чище душа и веселее сердце.
В. СиринВокруг юбилейного Собрания сочинений Гете
Публикация П. В. Дмитриева.
Предисловие
Празднование юбилеев великих деятелей русской и мировой культуры стало для советской власти, начиная с конца 1920-х годов, своеобразным актом ее культурной легитимации. В ряду имен мы видим Льва Толстого, Гете, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других. Открывается эта вереница празднеств столетием со дня рождения Л. Н. Толстого, пышно отмеченного в сентябре 1928 года. Однако по странной иронии судьбы большая часть торжеств — юбилеи со дня смерти. Здесь не у места входить в причины интереса новой власти к фигуре какого-либо покойного писателя, ясно одно: этот интерес в значительной степени находился во внелитературной плоскости; советская власть пыталась задать некую культурную парадигму, при которой доказывалась бы преемственность «передовых идей», — их наследницей и должна была явиться она, власть. Но такое стремление к «гуманитарной легитимации» принесло (что теперь, оглядываясь назад, можно утверждать с полным основанием) превосходные плоды: всевозможные издания, концерты, научные собрания и т. п.
Программа чествования памяти Гете также оказалась весьма представительной: торжественные заседания, речи, передовицы в газетах [129]. Однако в культурной памяти потомков столетие со дня смерти Гете осталось в виде книг, выпущенных в этом юбилейном году. Это — два первых тома из гетевского Юбилейного собрания сочинений, гетевский блок во 2-м сборнике «Звеньев» (подготовленном в 1932-м, но появившемся из печати в 1933 году) и том (4–6) «Литературного наследства» (как образцовый научный труд он не утратил своего значения и до наших дней).
Задуманное в 13 томах Юбилейное собрание сочинений Гете фактически было остановлено в 1937 году (вышли тома 1–4 и 6–11), причем состав редакции к этому времени уже был другим. Завершилось собрание сочинений лишь к 1949 году (к 200-летию со дня рождения Гете) с другим (третьим) составом редакции (в 1947 году вышел том 5 — «Фауст»; в 1948-м и 1949-м — два тома, № 12 и № 13, писем; 8-й том собрания не вышел). В выпущенном в 1932 году проспекте предусматривалось несколько иное распределение произведений Гете по томам, причем в последний, 13-й, том планировалось включить избранные естественнонаучные работы Гете под редакцией В. И. Вернадского. Перемена в составе редакции объяснялась арестом основных руководителей гетевского «проекта»; главным поводом для него послужил выпуск в 1934 году первого тома «Большого немецко-русского словаря» [130], состав редакции которого во многом совпадал с составом редакции Собрания сочинений Гете. Громкое политическое дело получило название «Немецкая фашистская организация (НФО) в СССР» [131]. Одним из его фигурантов стал историк искусства и архитектуры, переводчик Александр Георгиевич Габричевский (1891–1968), тонкий знаток европейской (прежде всего немецкой и итальянской) культуры, философ, переводчик — вдохновитель и главный организатор Юбилейного собрания сочинений Гете [132]. Он же, судя по сохранившейся переписке, привлек к редакционной и переводческой работе С. В. Шервинского, Б. И. Ярхо, М. Л. Лозинского, Вс. А. Рождественского, Д. С. Усова и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: