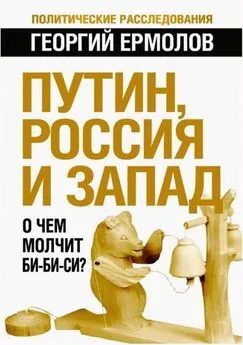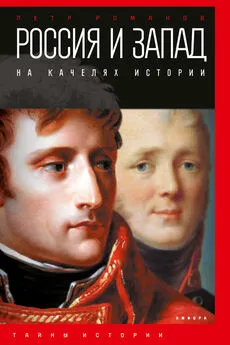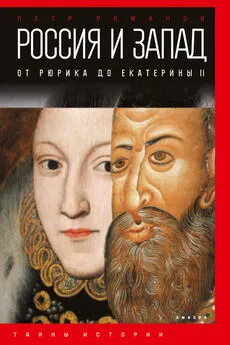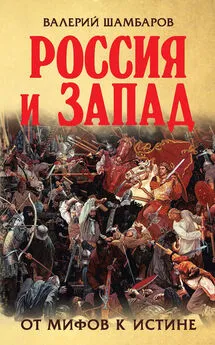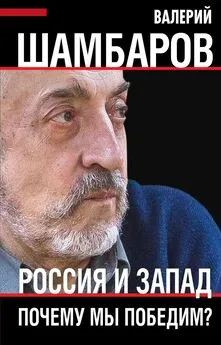Михаил Безродный - Россия и Запад
- Название:Россия и Запад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-917-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Безродный - Россия и Запад краткое содержание
Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.
Россия и Запад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вы замечали на карте метро такую соединительную линию — Navette. Где-то она, кажется, около Pré-St.-Gervais, или… да… нет, не знаю. Словом, пряменькая такая линия. Вот и роль эмигрантской литературы — соединить прежнее с будущим. Конечно, традиция — не плющ вокруг живых памятников древности. <���…> надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и — в новой форме — будущим. Как вам сказать… Вот Робинзон нашел в кармане зерно и посадил его на необитаемом острове — взошла добрая английская пшеница. А что, кабы он его не посадил, а только бы на него любовался, да охранял, чтобы не дай Бог не упало? Вот и с традицией надо, как с зерном. И вывезти его надо, и посадить, и работать над ним, творить дальше. Главное, совершенно необходимо ощутить себя не человеком, случайно переехавшим из Хамовников в Париж, а именно эмигрантом, эмигрантской нацией.Надо работать — и старым, и молодым. Иначе — катастрофа. Литературе не просуществовать ни в богадельне, ни в яслях для подкинутых младенцев… Что же касается принципиальной возможности… Глупости, что ничего нельзя создать! [560]
Он повторял эти взгляды в нескольких статьях, опубликованных на страницах «Возрождения» [561].
К середине 1930-х годов, однако, Ходасевич все больше подчеркивает трудности положения эмигрантского писателя, обосновывая это личным опытом. Это особенно заметно в его письмах. 23 октября 1936 года он писал А. С. Тумаркину, сотоварищу по 3-й московской гимназии:
…Твое общество я бы предпочел всякому другому, если бы вообще был еще способен к общению. Но я могу делать два дела: писать, чтобы не околеть с голоду, и играть в бридж, чтобы не оставаться ни с своими, ни с чужими мыслями.<���…> Я — вроде контуженного. Просидеть на месте больше часу для меня истинная пытка. Я, понимаешь, стал неразговороспос<���об>ен. Вот если бы я мог прекратить ужасающую профессию эмигрантскогописателя, я бы опять стал человеком. Но я ничего не умею делать [562].
Это чувство кризиса не прошло, а усугубилось со временем. 21 июня 1937 года, когда ходили слухи, что Ходасевич собирается вернуться в Советскую Россию, он писал Н. Н. Берберовой:
Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее «духовных вождях», за ничтожными исключениями) я уже не скрываю <���…> Я сижу дома — либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому <���…> и к Сирину [563].
Нет сомнения, что кризис отягчался его физической немощью, постоянным нищенством и неотложными заботами о деньгах. Но к концу 1937 года его разочарование дошло до такого предела, что Ходасевич решил поведать о нем не только в письмах, но и публично. 19 ноября 1937-го он писал В. В. Набокову:
Секрет: собираюсь писать для «С<���овременных> З<���аписок>»
статью о 20-летии эмигрантской литературы. Полагаю, что
царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется. [564]
Статья эта не была опубликована и даже дописана. Это связано либо с ухудшением здоровья писателя, либо с переменой его решения относительно необходимости (и разумности) публичного заявления о кризисе эмигрантской культуры. Четыре машинописных страницы (с поправками от руки) сохранились в архиве Ходасевича и были проданы Н. Н. Берберовой М. М. Карповичу, когда она приехала в Америку в начале 1950-х годов. Теперь они находятся в фонде Карповича в Бахметевском архиве (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Черновик статьи (без названия) публикуется здесь впервые [565]. В квадратных скобках [] даны зачеркнутые слова. Текст публикуется в новой орфографии, а не в старой, которой Ходасевич не изменял до конца жизни; все же остальное воспроизведено так, как есть в рукописи.
Строго говоря, о двадцатилетии эмигрантской литературы, как и советской, писать преждевременно, потому что этот срок еще не исполнился ни для той, ни для другой: раздвоение русской [литературы словенс <���так!>] словесности хронологически не совпадает с октябрьскою революцией: оно произошло несколько позже. Однако, это раздвоение именно октябрьскою революцией вызвано, и ее двадцатилетие дает повод говорить о двадцатилетии эмигрантской литературы.
[Первое десятилетие зарубежной словесности] Ее первое десятилетие ознаменовано долгими, порою ожесточенными спорами о самой возможности ее бытия. Возвращаться к ним сейчас уже не имеет смысла, потому что они разрешены самой жизнью: [двадцатилетие] двадцатилетнее существование эмигрантской литературы есть факт, наличность которого отрицать уже не приходится. Тут, однако, ставят порою вопрос: действительно ли мы имеем перед собою литературу, то есть [некоторое] целостное, внутренне объединенное явление, или только [некий] конгломерат печатных произведений, еще не образующих литературы, несмотря на свое количество? Такой вопрос отнюдь не представляется праздным или бессодержательным. Действительно груда книг, объединенных местом и временем издания, даже при наличии известного качественного уровня, не [всегда] непременно составляет то, что может быть с полным правом названо литературой данной эпохи и территории. Однако, в нашем случае вопрос решается просто, ибо ответ вытекает из очеви[дности: ]дности. При самом даже поверхностном сравнении зарубежной «литературной продукции» с советской, мы тотчас замечаем, что они разнятся друг от друга далеко не только своими официальными общественно-политическими идеологиями, которые, может быть, составляют их наименее существенные признаки. Различие гораздо [глубже: оно в] разительнее и глубже: оно в языке, в стиле, в голосе, в самих понятиях о природе и [смысле] назначении художественного творчества. Мало-мальски развитой глаз уж безошибочно, не глядя на подпись автора и место издания, отличает написанное «здесь» от того, что пишется «там» [(случайные подража] (случайные и немногочисленные «подражания советскому», разумеется, в счет не идут). Сама возможность такого распознавания всего лучше свидетельствует о том, что в обоих случаях перед нами — именно не конгломераты книг, а целостные и своеобразно окрашенные литературы: эмигрантская и советская.
Бытие зарубежной словесности началось в условиях, неблагоприятных не только внешне, но и внутренно. Уже к началу войны, даже несколько раньше, было ясно, что период, ознаменованный господством и влиянием символизма, изжит, закончен. На смену символизма как будто шли новые течения: акмеизм, мистический реализм, неоклассицизм, футуризм с его разветвлениями. Однако, их новизна была кажущейся, потому что все это [были] было не что иное, как слабые, порою вполне дефективные варианты символизма. Подлинной смены еще не было, она даже еще не намечалась. (Писатели] Эпоха была критическая, а не созидательная, и таковою осталась вплоть до революции. Писатели, ушедшие после Октября в добровольное изгнание и положившие начало эмигрантской словесности, унесли с собой лишь общие традиции русской литературы: ее национальную окраску, ее тяготение к религиозно-философским и нравственным проблемам, наконец (и в особенности) — ее духовную независимость. [В советской России всему этому места не было. Эмигрантская литература] В советской России всему этому места не было. Эмигрантская литература видела смысл своего существования в том, чтобы эти традиции сберечь, пронести через лихолетие, которое мнилось ей непродолжительным. Она их и сберегла — по крайней мере, как идеал, и в этом есть несомненная, неотъемлемая заслуга ее зачинателей. Но той жизненной энергии, того благодетельного духа новых исканий, который свойствен творческим, а не критическим эпохам, она с собою не принесла и не могла принести. Если мы припомним основной, руководящий состав ее деятелей, то увидим, что, за единственным исключением, о котором речь будет ниже, она состояла из людей, либо давно уже выполнивших свою историческую миссию, либо из эпигонов, никогда никакой миссии не имевших [566].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: