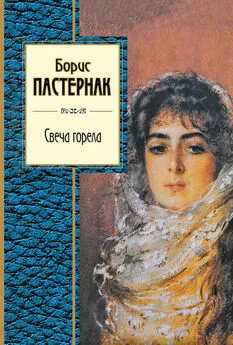Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Название:Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0046-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики краткое содержание
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка. Подход к творчеству Пастернака с точки зрения его духовных оснований позволяет выявить сложное философское содержание в том, что на поверхности выглядит простым или даже банальным, а с другой стороны, обнаружить головокружительную простоту неопосредованного впечатления в кубистической затрудненности образов его ранней лирики и прозы.
Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прости, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
(Сопоставление творчества с расправляемыми крыльями также восходило к годам философского учения Пастернака; в одном из ранних набросков есть слова про «действительность и творчество, оба одинаково живых и нужных крыла». [54] Е. Б. Пастернак 1989: 92.
)
Именно такой «опоры» — объективно-безразличной к его личным предпочтениям и устремлениям, — не оказалось у Пастернака в его занятиях музыкой [55] Занятия с Р. М. Глиэром в 1909 году подчеркнули «разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой» (Е. Б. Пастернак 1989: 112).
. Пастернак-композитор не поддался искушению поверить, что его талант «выше» этого недостатка, и отказался от попытки взлететь в безвоздушном пространстве. Самоотверженное рвение, с которым он несколько лет разыгрывал эпистемологические гаммы на подступах к поэзии, вытекало из этого опыта.
Отличие «гаммы» от «противоядия» состоит в том, что надобность в последнем отпадает, после того как оно возымело свое полезное действие, тогда как технический навык, приобретенный с помощью первой, остается на всю последующую творческую жизнь как нечто само собою разумеющееся, о чем больше нет нужды заботиться специально, но незримо присутствующее во всем дальнейшем. Именно таким мне представляется роль формального философского учения в творчестве Пастернака. Пастернак не стал поэтом-кантианцем, подобным бергсонианцу Прусту или гуссерлианцу Музилю. Понимание сущности искусства, в основании которого лежит идея трансцендентального единства познания мира, пронизывает весь строй его образов, но делает это не прямо, а косвенно, — в качестве среды сопротивления («упорства»), дающей им опору.
Когда в 1923 году Пастернак с женой навестил Марбург, разоренный войной («Германия <���…> с протянутой временам, как за подаяньем, рукой <���…> и вся поголовно на костылях»), он нашел свою комнату и застал хозяйку и ее дочь «на тех же местах, что и одиннадцать лет назад». Заканчивается описание этого последнего посещения словами: «А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер» (ОГ II: 11). Как и в других посвященных Когену эпизодах «Охранной грамоты», все, что видно на поверхности текста, говорит о любви к учителю, смешанной с горечью потери и смутным чувством вины. Стоящая за этим внутренняя драма остается «вещью в себе»: она выражает себя лишь в перифрастических отголосках, трансцендентных для предполагаемого читателя. Таким намеком служит сквозной пастернаковский мотив хромоты («на костылях»). Он оказывается «метонимическим» ключом, открывающим реминисцентный путь к эпизоду почти двадцатилетней (по отношению к написанию автобиографии) давности, о котором в свое время Пастернак поведал в письме к сестре Жозефине из Марбурга (17.5.12). В письме рассказывалось о несчастье, случившемся с сыном хозяйки: мальчика толкнул учитель, он упал и повредил ногу, теперь «нога на 7 см короче <���…> он не может долго сидеть и не может долго стоять — его гонит эта боль». Примечательно окончание истории: «Что сделали учителю? Он скоро умер» (СС 5: 34). Укороченная нога, никогда не утихающая, не дающая отдыха «боль», — личностный подтекст этих описаний совершенно прозрачен. Известие о смерти Когена в «Охранной грамоте» звучит как отдаленное эхо слов об учителе, с которым «нельзя» объясниться по поводу полученного увечья: «Когена нельзя было видеть. Коген умер».
Однако это надежно замаскированное признание о травме, вынесенной из академического послушания, которая всю жизнь потом будет мучить, не позволяя «долго сидеть» на месте, раскрывает лишь одну сторону дела. Лейтмотив «хромоты» в контексте творческой биографии Пастернака невозможно оценить вне библейской аллюзии единоборства Иакова с ангелом [56] «Комплексу Иакова» в творчестве Пастернака посвящено специальное исследование Жолковского 2011 [1994]. См. также ряд более ранних работ, указавших на значение этого мотива: Флейшман 2006 [1977]; Ольга Раевская-Хьюз 1989.
. Эта сторона ситуации заявила о себе еще позднее, в переводе двух стихотворений Рильке из «Книги образов» [57] После разрыва с первой женой в 1931 году Пастернак наклеил фотографию ее с сыном на титульную страницу «Buch der Bilder» — «лучшей книги Рильке <���…>, с которой не расстаюсь» (Е. Б. Пастернак 1989: 479).
, который Пастернак включил — с явным намерением контрабандой доставить хоть крупицу Рильке послевоенному советскому читателю — во вторую автобиографию (1956) [58] Прецедентом для этого послужила публикация перевода «Реквиема» Рильке в журнале «Звезда» рядом с первой частью «Охранной грамоты» в 1929 году.
:
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.
Перевод, прекрасно передавая дух оригинала [59] Как он скажет в письме к М. Окупорье (4.2.59) — как обычно, с некоторым преувеличением, когда речь идет об идеальном пребывании «в тени» гиганта: «вся моя художественная деятельность есть не что иное как перевод или переложение его [Рильке] мотивов; я ничего не добавил к его оригинальности, и всегда плавал в его водах» (цит. в Barnes 1989: 111).
, отступает от него в ряде характерных деталей. Его заглавие у Пастернака, «Созерцание» — абстрактное и безличное, в контрасте с субъектно ориентированным заголовком у Рильке («Der Schauende»: ‘глядящий, наблюдающий’; Rilke 1966: 215), — своим напоминанием об одном из ключевых терминов метафизики (Anschauung: ‘воззрение’, ‘созерцание’) задает философскую тональность стихотворения; перед нами «созерцание» без «смотрящего», подобное когеновскому cogito без sum. Философский фон перевода усиливается тем обстоятельством, что его начальные слова: «Деревья складками коры Мне говорят об ураганах» — отсылают к лекциям Флоренского начала 1920-х годов во ВХУТЕМАСе (месте, где прошло детство Пастернака) [60] Witt (2000: 44–45), отмечая некоторые черты Флоренского в образе Живаго, находит отражение ВХУТЕМАСовских лекций в романе.
. Имея в виду революционизацию понятия пространства в современной науке и авангардном искусстве, Флоренский утверждал: «Можно говорить, что самые вещи — не что иное, как „складки“ или „морщины“ пространства, места особых искривлений его» [61] Флоренский 2000: 84.
. ‘Морщины’ у Пастернака тоже не заставляют себя ждать: они появляются в переводе второго стихотворения Рильке («За книгой» — «Der Lesende»; Rilke 1966: 213), и тоже в связи с процессом созерцания: «Я вглядывался в строчки, как в морщины Задумчивости…». (У Рильке в соответствующем месте более нейтральное Miene ‘выражение лица’; слову ‘складки’ в оригинале вообще нет соответствия [62] О неслучайности выбора этих ключевых слов у Пастернака свидетельствует его заметка, опубликованная Н. Струве (1989), в которой переделка ранних стихов в конце 1920-х годов описывается им как превращение всего «движущегося» в них «в складки закостенелого и изолированного документа».
.)
Интервал:
Закладка: