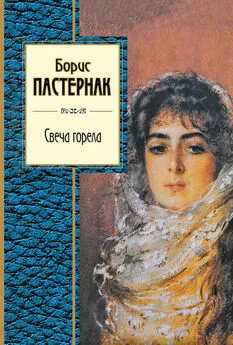Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Название:Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0046-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики краткое содержание
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка. Подход к творчеству Пастернака с точки зрения его духовных оснований позволяет выявить сложное философское содержание в том, что на поверхности выглядит простым или даже банальным, а с другой стороны, обнаружить головокружительную простоту неопосредованного впечатления в кубистической затрудненности образов его ранней лирики и прозы.
Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
6. Возвращение
Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар,
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря,
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.
Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.
Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.
Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.
Там в зареве рдела застава
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.
«О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».
Стихотворение «В больнице» (1956) из сборника «Когда разгуляется» отразило личный опыт поэта, перенесшего тяжелый инфаркт осенью 1952 года, — вернее, осмысление им этого опыта, позволившего еще раз испытать «в каком-то запоминающемся подобии» переживание смерти. О символической заряженности этого личного опыта говорит тот факт, что многие поэтические мотивы стихотворения «В больнице» появляются уже в письмах, написанных по свежим следам события, некоторые из которых звучат как его прозаический эскиз [212] См. в особенности письмо к Н. Табидзе 17.1.53 и к Фрейденберг 20.1.53.
.
Стихотворение отразило в себе как содержание позднего творчества Пастернака — в частности и в особенности, романа и его последней стихотворной главы, выводившей жизненную историю героя в мистическую проекцию, — так и радикальную (на вкус многих поклонников его раннего творчества, слишком радикальную) реализацию декларированного еще в тридцатые годы принципа «неслыханной простоты». Особенную, даже исключительную важность этому моменту в человеческой и творческой эволюции Пастернака придает тот факт, что «В больнице» является, как кажется, единственным его художественным произведением, в котором обращение к Богу происходит открыто и непосредственно «от лица» субъекта его лирики (в отличие от «Доктора Живаго», где с такими декларациями, в прозе и стихах, выступают персонажи романа). Мистериальная (или, если угодно, евангельская) простота лирического сообщения, та прямота, с которой оно апеллирует к трансцендентному, выступает здесь как свойство авторского поэтического голоса, без переадресации к стилистике и духовному лексикону Серебряного века, как это происходит в «Стихотворениях Юрия Живаго».
Вместе с тем, стихотворение особенно интересно еще и потому, что, при всей яркости, с которой в нем выступают черты «нового Пастернака», оно обнаруживает преемственность с фундаментальными категориями поэтического мышления, которым Пастернак оставался верен на протяжении всего своего творчества. Это позволяет предметно поставить вопрос о сущности творческой эволюции Пастернака в последние пятнадцать лет его жизни.
Прежде всего, отметим верность Пастернака в этом стихотворении «поэтике быта», особенно поразительную перед лицом трансцендентной многозначительности и самого события, и тона, в котором о нем повествуется. Подобно тому как лирика раннего Пастернака умела передать грандиозность бытия тем, что буквально наводняла картину мельчайшими деталями, сугубо прозаическими в своей будничной конкретности, так и здесь переживание лирическим субъектом трансцендентной ситуации на пороге смерти включено в течение будничной жизни, облекаясь во множество конкретных бытовых подробностей: человеку стало плохо на улице, приезжает машина скорой помощи, милиция разгоняет столпившихся зевак, «фельдшерица» оказывает первую помощь (нашатырный спирт), наконец он попадает в больницу, где никакая экстренность ситуации не способна ускорить томительную процедуру приема.
Замечательна типичная для лирического зрения Пастернака скорость, с которой поэтический взгляд перемещается с предмета на предмет, мгновенно выхватывая, точно из мрака (в данном случае — реально из тьмы ночных улиц и полумрака приемного покоя, к тому же сквозь полубессознательное состояние больного), осколки впечатлений. Мы слышим — косвенно, точно в отголоске, — грубый окрик милиционера, заставляющего расступиться столпившихся на «тротуаре»: ‘Ну что стали, как перед витриной!’; ощущаем с физической конкретностью резкую поспешность, с которой санитар вталкивает носилки и вскакивает в уже тронувшуюся машину; из полумрака приемного покоя зрение на мгновение выхватывает фигуру полусонной приемщицы, кое-как «марающей» опросный листок, а потом, уже в больничном коридоре, сиделки, по-крестьянски жалостливо качающей головой. Само впечатление героя от больницы отражает опыт человека, привыкшего иметь дело с привилегированными медицинскими учреждениями; в «смертную кашу» (как ее назвал Пастернак в письме к Фрейденберг) обычной городской больницы он попал случайно, из-за полной внезапности события [213] Перевести Пастернака из «общего отделения» Боткинской больницы, куда он попал с улицы, в лучшие условия, как о том хлопотала З. Пастернак, удалось лишь спустя два месяца, ввиду его крайне тяжелого состояния в первые недели. См. Е. Б. Пастернак 1989: 613–614.
. Но и это впечатление передано двумя фрагментарными, физически осязаемыми деталями: холодом, веющим от окна, и резким запахом йода.
О содержании вопросов к пациенту и его ответов при приеме в больницу мы кое-что узнаем из мимолетного следа, оставленного словом «переделка», которым он сам определяет свое положение. Словечко завоевало широкую популярность в годы войны, и неудивительно, что оно пришло герою стихотворения на память. Однако читатель стихотворения не может не заметить личный подтекст, отождествляющий лирического героя непосредственно с автором стихотворения, — ассоциацию с «Переделкино». По-видимому, герой возвращался вечером из Москвы к себе на дачу (о чем он и сообщает на вопрос об обстоятельствах случившегося с ним несчастья), и мысль о доме, до которого ему не суждено было доехать, притягивает по ассоциации выражение «попал в переделку».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: