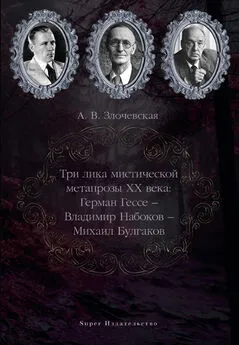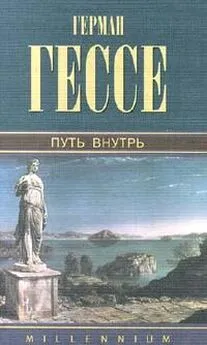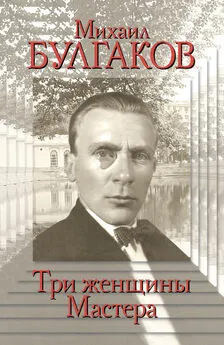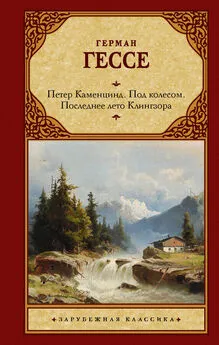А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
- Название:Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентСупер-издательство8f90ce9f-4cec-11e6-9c02-0cc47a5203ba
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00071-999-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков краткое содержание
В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.
Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.
The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria. And this phenomenon was common to both, Russian-language literature at home and abroad, and West European literary writings.
The book is addressed to a wide range of readers, from literary critics, university lecturers and students to anyone interested in Russian and West European fiction.
Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я услышал эти два голоса и воспринял эти два учения Достоевского в те времена, когда был настоящим его читателем, подготовленным страданиями и отчаянием» [58].
Гессе фактически пересматривает собственное отношение к русскому гению. Главное отличие: в эссе «Достоевский» подчеркнуто обозначено различие между общественной моралью, с одной стороны, и совестью как понятием о нравственности, данной человеку Богом, с другой. Более того, подчеркнута неизбежная конфронтация между этими понятиями. И если, оценивая творчество Достоевского с позиций общественной морали, западный человек Гессе ужасался, то, осознав ее поверхностность и неистинность, он воспринимает творения великого русского писателя не как человек западный или азиатский, а просто как человек. И только тогда свершается акт проникновения в сокровенное духа Достоевского – его трагического мирочувствования и радостного ощущения бытия, устремленного к постижению Бога и единению с Ним.
В этом своем качестве человека Гессе-писатель воспринял от Достоевского очень многое и, бесспорно, развивался в русле его литературной традиции.
Генетические истоки типологической линии Достоевский – Гессе – Набоков – Булгаков кроются в наследовании и развитии писателями XX в. того эстетического потенциала, который заключало в себе наследие автора «Братьев Карамазовых». И если творчество Достоевского можно назвать лишь предвестием трансформации мистического реализма XX в. в стадию метапрозы, то вершинные образцы этого переходного этапа создали Г. Гессе, В. Набоков и М. Булгаков.
Наиболее отчетливо синтез металитературной и метафизической доминант проступает в художественном стиле В. Набокова. Не случайно в современном набоковедении существуют две, на первый взгляд противоположные, но на самом деле взаимодополняющие концепции его стиля: иррационально-трансцендентная и металитературная .
Так, еще В. Ходасевич писал о В. Сирине:
«Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника – вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях» [59].
Так, сам того не ведая, критик положил начало интерпретации набоковских произведений в духе метафикшн. В современном набоковедении эта концепция доминирует [60].
В свою очередь В.Е. Александров противопоставил концепции металитературной природы художественного дара Набокова иную стратегию интерпретации набоковской прозы.
«Основу набоковского творчества, – утверждал ученый, – составляет эстетическая система, вырастающая из интуитивных прозрений трансцендентальных измерений бытия» [61].
По мнению В.Е. Александрова, именно иррационально-трансцендентную доминанту следует признать структурообразующей в творчестве Набокова. А все произведения писателя, «как некий водяной знак», пронизывает тема «потусторонности» [62].
Однако то, что В.Е. Александрову представлялось конфликтом «двух типов прочтения» [63]– металитературного и иррационально-трансцендентного , – при внимательном рассмотрении оказывается антиномией взаимодополняющей.
Иррационально-трансцендентная доминанта творчества Набокова, так же как Гессе и Булгакова, проявляет себя вполне определенно.
«Великая литература, – писал автор „Дара“ в книге „Николай Гоголь“, – идет по краю иррационального» [Н1., T.1, c.503]. Настоящее искусство, по Набокову, стремится проникнуть за видимую поверхность жизни в некую идеальную сущность вещей, а цель его – постигать «тайны иррационального <���…> при помощи рациональной речи» [Н1., T.1, c.443]. То же, едва ли еще не с большим основанием, можно сказать о произведениях Булгакова, который сам сформулировал свое творческое credo: «Я – мистический писатель» [Б., 5. 446] [64]. Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) в предисловии к первому изданию за рубежом полного текста «Мастера и Маргариты» вполне оправданно применил термин «метафизический реализм» к творчеству Булгакова.
Что касается Г. Гессе, то у подавляющего большинства исследователей мистико-иррациональная доминантная составляющая его произведений сомнений не вызывает.
Металитературная составляющая также наиболее очевидна в произведениях В. Набокова. А вот жанровая природа метаромана в «Мастере и Маргарите», как и в романах Г. Гессе «Степной волк» и «Игра в бисер», далеко не столь очевидна. Однако так же, как «Дар» – это отнюдь не жизнеописание скитаний русского писателя-эмигранта в Берлине и не love story молодых героев, а роман о Русской Литературе [65], так и Булгаков в своем романе повествует не о похождениях Воланда и его свиты в Москве или о любви героев-протагонистов – его макротекст воссоздает историю сотворения романа об Иисусе Христе.
Заметим, что обычно, говоря о металитературности булгаковского «закатного» шедевра, имеют в виду роман мастера [66]о Понтии Пилате. Однако доминантный сюжет «Мастера и Маргариты», его макротекста, воссоздает процесс рождения и написания другого романа – об Иисусе Христе, а сочинение мастера – лишь этап его сотворения. Можно сказать, что «Мастер и Маргарита» начинается в «Прологе на Патриарших» с творческой неудачи Ивана Бездомного – сочинения к Пасхе антирелигиозной поэмы, а заканчивается тем, что настоящий роман о Христе к Пасхе создан – это и есть макротекст «закатного» романа М. Булгакова [67].
К металитературе следует отнести и «Театральный роман» – историю о сочинении писателем Максудовым романа «Черный снег», затем переделке его в пьесу и о постановке на сцене «Независимого театра». Итогом творческого процесса, как и предсказывал подзаголовок – «Записки покойника» – стала смерть автора.
В «Степном волке» на метафикциональную природу повествования указывает его финальная фраза, которая переориентирует текст с жанровой модели мистико-психологического романа на метапрозу: «Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше» [Г., T.2, c.398]. Целью повествования оказывается не просто анализ глубин подсознательного героя (во многом автобиографичного), а постижение его внутреннего «я». Финальная фраза отбрасывает регрессивный отблеск метафикциональности на весь текст. В «Игре в бисер» дух метафикшн всеопределяющ, ибо здесь развернутая метафора «искусство – сотворение миров» является структурообразующей.
Скрытая доминанта повествования во всех случаях – сочинительство. При этом степень приближения «Степного волка», «Дара» и «Мастера и Маргариты» к инварианту жанра метаромана [68]различна: полное соответствие – «Дар»; неполное – «Мастер и Маргарита», так как здесь нет творческой саморефлексии; неявное – в «Степном волке», поскольку метароманная природа текста обнаруживает себя лишь в финале, когда становится ясно, что весь текст сочинен экстрадиегетическим повествователем, который не принадлежит миру героев [69].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: