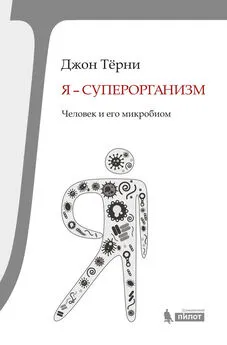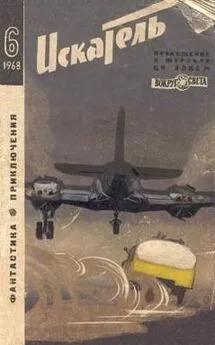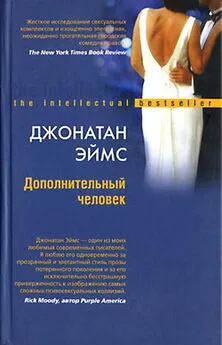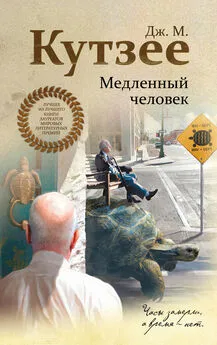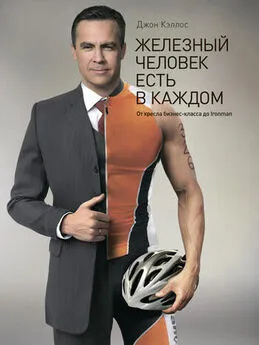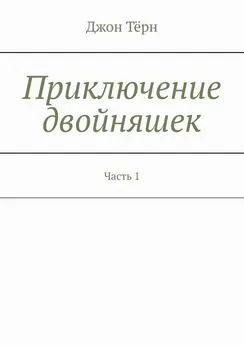Джон Тёрни - Я – суперорганизм! Человек и его микробиом
- Название:Я – суперорганизм! Человек и его микробиом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентБИНОМ. Лаборатория знанийa493f192-47a0-11e3-b656-0025905a06ea
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00101-416-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Тёрни - Я – суперорганизм! Человек и его микробиом краткое содержание
В каждом из нас живет множество бактерий и вирусов-во рту, на коже, в кишечнике. Они помогают переваривать пищу и усваивать лекарства, влияют на нашу гормональную и иммунную системы и более того – даже на мозг! Все это сообщество микроорганизмов ученые назвали микробиомом.
Джон Тёрни рассказывает о самых последних исследованиях микробиома, о его возникновении, росте и роли в развитии самых разных болезней (аллергии, диабета, желудочно-кишечных расстройств, рака и шизофрении). Прочтя эту книгу, вы, несомненно, по-новому ощутите свой организм, свое тело; по-новому посмотрите на себя как на личность.
В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.
Я – суперорганизм! Человек и его микробиом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Меня поражает и то, насколько суперорганизм моего типа отличается от просто организма. Организму можно дать вполне четкое биологическое определение. У него есть части, и целое – больше, чем просто сумма этих частей. Все они координируются взаимодействиями, удерживающими целое в нормальном состоянии. Отклонения от заведенного порядка обычно означают болезнь. К примеру, на клеточном уровне злокачественную опухоль можно считать частью человека: у него с ней общий геном по крайней мере на ранних стадиях ее развития. Но ее интересы, некогда общие с человеческими, постепенно начинают сильно от них отличаться. Если опухоль удастся удалить и если она принадлежит к разновидности, почти не оставляющей после себя зримых телесных изменений, то после операции человек скорее будет чувствовать, что его Я восстановилось, а не уменьшилось.
Кое-что из этой идеи всевластного целого можно перенести на еще один тип «суперорганизма»: иногда данный термин применяют к общественным насекомым (а изредка и к млекопитающим – привет, сурикаты!), генетически связанным между собой и функционирующим как единая сущность. С некоторых точек зрения их можно рассматривать как единый организм с отделяемыми частями, каждая из которых по отдельности не обладает жизнеспособностью. Состав таких суперорганизмов также легко определить. К примеру, мы можем узнать, какая пчела из какого улья прилетела.
Совсем иное дело – социальный организм, который попадает в поле зрения при изучении нашего Я в увязке с нашим микробиомом и при попытке мысленно собрать эту систему заново. Не все наши микробы удается точно классифицировать или зафиксировать: конкретный состав популяционной смеси чрезвычайно изменчив и в какой-то степени зависит от случайных событий и от времени. Это вольное сотрудничество, партнеры в котором постоянно меняются [199]. Многие из входящих в него видов или наборов видов с удовольствием жили бы где-то в другом месте. Может показаться, что они служат какой-то более масштабной цели, когда, к примеру, обитают у меня в кишечнике, однако на самом деле бактерии растут и размножаются там, поскольку их устраивает такой образ жизни. Состав и поведение всей этой компании очень трудно предсказать, и ее стабильность может в любой момент нарушиться. Когда я умру, некоторые из бактерий, которыми я питался при жизни, с очаровательным безразличием микробов станут в свою очередь питаться мною. Мы связаны, но наши судьбы отнюдь не являются такими уж неразрывными [200].
Еще одно серьезное изменение в моем восприятии себя то, как я теперь учусь думать о роли иммунной системы в осуществлении этих связей. Представление об ее функционировании как о ведении боевых и разведывательных операций никогда меня толком не убеждало. Похоже, я давно ждал именно такого объяснения, которое сейчас постепенно формируется учеными, всерьез исследующими, как мы уживаемся с таким сложным микробиомом.
Я ловлю себя на том, что теперь представляю себе иммунную систему, другие клетки и ткани, микробиом и даже мозг как участников постоянного разговора. Обычно это беззаботный шепот где-то на заднем плане, болтовня клеток на вечеринке. Но время от времени темп разговора нарастает, и когда общество по-настоящему возбуждается, вспыхивают споры, а порой и более серьезные перепалки. Иногда возникают ужасные случаи недопонимания. Во всем этом, по-видимому, больше нюансов, чем в предыдущих описаниях той же системы. Разговоры могут вестись на большом расстоянии. Обычно они сводятся лишь к чему-то вроде: «Как ты там, все нормально? – Ага, все в порядке. – Ну ладно». Иногда слышится такое: «Думаю, тебе интересно будет к этому присмотреться», а порой доходит и до такого: «Похоже, у нас вот-вот будут неприятности, вот в этом месте, пришлите помощь, пожалуйста!» или даже до «Опасность! Уничтожить! Искоренить!» Но гораздо чаще все стараются быть предельно вежливыми, потому что им хочется избежать неприятностей.
Впрочем, это лишь мои фантазии. К тому же неизвестно, могу ли я влиять на это общение. Я не говорю на их языке, да и речь их едва слышна. Однако, по-моему, важно хотя бы просто признавать, что такое общение происходит.
Это общение соединяет меня с микробной жизнью, а значит, и со всей прочей. Другие связи с ней я теперь ощущаю гораздо острее, чем прежде, – в моих клетках (где есть митохондрии), в моих генах (где есть генетические фрагменты, уцелевшие от бактериальной живности в ходе эволюции), в моем кишечнике (где есть бактерии, составляющие немаловажную часть более крупного клеточного сообщества).
Возможно, это могут быть связи с формами жизни, которые слишком малы, чтобы их разглядеть. Но я все равно рад, что мне выпало жить в эпоху, когда наука делает их видимыми. Товарищеский привет всем нам, суперорганизмам. Рад познакомиться.
И наконец… Да, мой микробиом можно рассматривать как нечто, позволяющее мне теснее соединяться с прочими живыми существами. Тут уместен грандиозный и очень привлекательный образ, который мне очень нравится. Приятно ощущать суперорганизм как неплотно сплетенную сеть, объединяющую все живое на Земле посредством микробного и вирусного обмена, а иногда, при случае, и обмена генетического. Когда-то я написал книжку о Джиме Лавлоке и его гипотезе Геи [201]. Хотя мне, признаться, не по душе концепция Геи как некоего шедевра планетарной саморегуляции, я остро чувствую различия между этой живой планетой и другими – неживыми. Хорошо быть частью живого!
Впрочем, такое осознание позволяет прийти к очаровательному локальному упрощению для решения некой запутанной проблемы. Речь идет о практическом культивировании микробиома, который является крошечным узелком этой глобальной сети. Мне снова приходит на ум вклад Грэма Рука в гигиеническую гипотезу и его идея о том, что нам необходимо поддерживать знакомство со своими микроскопическими «старыми друзьями». Он настаивает, что отличное место для этого – всякие зеленые пространства. Значит, нужно быть поближе к листьям и почве, к птицам и насекомым? Не обязательно.
Ведь микробы, в конце концов, есть повсюду. Возьмите хоть их популяции, обитающие в воздухе, предлагает Рук. Бактерии, которые имеются в почве и воде, в изобилии присутствуют и в атмосфере. В частности, они содержатся в почве и воздухе крупных городов [202]. Между прочим, в почве нью-йоркского Центрального парка (ну да, у него немалая площадь) при недавнем анализе обнаружили целых 170 тысяч видов микробов [203]. В одном кубическом метре воздуха над газонами и кустами может содержаться миллион живых организмов. А средний человек вдыхает 8 кубометров в день. Так что, может, мне вообще забыть обо всех этих пребиотиках и пробиотиках? Может, больше не думать о том, стоит ли завести собаку из соображений роста микробного разнообразия? Достаточно лишь зайти в парк за углом – и немного там подышать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: