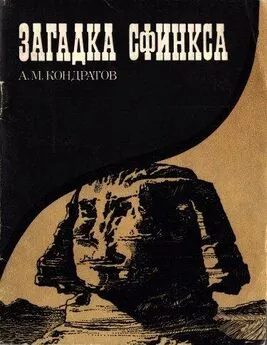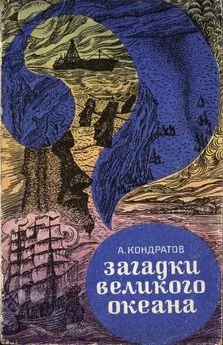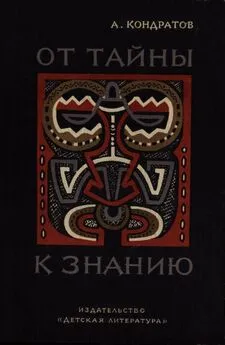Александр Кондратов - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е
- Название:Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89059-043-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кондратов - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е краткое содержание
Первая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. В нее вошли как опубликованные, так и не публиковавшиеся, ранее произведения авторов, принадлежащих к так называемой «второй культуре». Их герои — идеалисты без иллюзий. Честь и достоинство они обретали в своей собственной, отдельно от советского государства взятой жизни.
Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е
Андрей Арьев
За четверть века до начала сеанса
Как бы там ни страдала молодая неподцензурная проза северной столицы от непризнания и запретов в начале 1960-х, ущербной художественную рефлексию ее авторов не назовешь. Скорее даже у них вырабатывался своего рода комплекс литературной полноценности, и героя этой прозы мы удивительным образом застаем в момент, когда он «шел по Невскому, и совсем было хорошо!» Такова экспозиция рассказа Андрея Битова «Пенелопа». Рассказа, пришедшего автору на ум и записанного в одну из субфебрильных ленинградских ночей словно бы для того, чтобы уже утром следующего дня провидение одарило сочинителя завидной аудиторией. Едва сам автор вышел на Невский, как столь же случайно, сколь и кстати, повстречал неординарных слушателей — Эру Коробову и Иосифа Бродского. И это тоже было хорошо.
А через три года — в 1965-м — «Пенелопу», отвергнутую ведущими журналами, опубликовал альманах «Молодой Ленинград».
И тут кое-кому в Смольном и на Шпалерной стало нехорошо: кораблик-то из литературной совгавани отчалил непросмоленным. Как бы не дал идеологической течи, не затонул посреди фарватера! Впору было озаботиться, на кого списать неизбежную катастрофу, где искать виновных. (Была такая у властей изумительная формулировка: «Найти виновных!» Или, наоборот, как знак прощения: «Виновных искать не будем!» Понятно, что в первом случае их находили, даже если диверсантом нагрянул снегопад, а во втором не находили, сиди разбойник хоть в соседнем кресле.)
В случае Битова виновных поначалу вроде бы искать было и не нужно. Даром, что радостью для его героя было уклониться от общественно полезного труда, а печаль его настигала не в опасении расплаты за прогулянный на Невском день и бесцельно прожитые на нем же годы. Главное — мораль, финальное осмысление. Оно обнадеживало. Сомнительный битовский персонаж признавался: никому и ничем он помочь не в состоянии. Налицо, так сказать, кризис индивидуализма. И даже на лице: «Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано».
Однако ж и самому ему смешным показалось бы ждать от кого-нибудь помощи. «И не надо помогать». С этой скорее лирической, чем прагматической, истиной жить было можно. Можно было жить, уклонясь от недреманной помощи коллектива. Быть зачисленными в тунеядцы и плохо кончить виделось угрозой менее катастрофической, чем шастать до старости на железных костылях идеологии. Осужденный в ту пору как тунеядец Иосиф Бродский представительствовал за всех и доказал, кто был прав.
Непонятный пыл и повышенная чувствительность питерского героя имеют объяснение: его взор направлен исключительно внутрь себя самого, коллективистской недреманной морали он не замечает в упор, ускользает от нее и в радости и в горе. Что говорить: герой битовского «Бездельника» даже в зеркале себя не узнает, и, уж конечно, никакому начальнику не постичь, чем у него голова забита. Такова экспозиция и других вещей Битова, если переводить их сюжеты в постылый социальный план. Их автор пишет об идеалистах, лишенных иллюзий, об освобождении от этих иллюзий, пускай ценой отчаяния. Того сокровенного отчаяния, что художнику бывает много ближе и дороже бодрости.
Смеяться-то они все, оглядываясь по сторонам, смеялись. Но за будоражащим любопытством и фрондерством просматривался у этих героев, равно как и у их создателей, второй, личный план. В сущности, он был первым. «Мне сегодня весело, — исповедуется себе самому герой повести Генриха Шефа „Записки совсем молодого инженера“. — Это, конечно, смешно…»
Оттого и хотели молодые авторы шестидесятых занять умы своих современников речью искусной и веселой, что отлично знали: все, о чем они пишут, о чем стоит писать, — грустно. Грустно, как говаривали в старину, от века.
Идеалистами без иллюзий были их герои, идеалистами без иллюзий были и их творцы, уже с так называемой оттепели пятидесятых подставлявшие себя всем свободным ветрам. Кому-кому, а им открылось сразу и незамутненно: что подтаяло, то и потекло. Далеко не всюду это были звонкие ручьи. Но все равно — настроение было весенним. Будоражили возможность с метафизической высоты окинуть взглядом мир, желание самим установить, с какой колокольни, кому и на каком языке дозволено судить о мнимых или истинных грехах своих современников. Не говоря уж о грехах собственных.
Помню, как в середине шестидесятых я разговорился со знакомой, весьма принципиальной и на удивление честной коммунисткой преклонного возраста, издательским работником одного культуроохранительного заведения на Фонтанке. Меня она прямо-таки ошарашила, обмолвившись о только что увиденном ею фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз»: «Это гениально!»
Уж что-что, а история романтического смутьяна, «в память о неразделенной любви к родине» перестрелявшего и случайных людей, и одухотворенного партийца, да так и не раскаявшегося, должна была, по моим представлениям, ее возмутить или хотя бы смутить. А тут: «Гениально!»
И вот, оказалось, почему. В финальной сцене фильма герой (его играл несравненный Збигнев Цибульский), студент, участник Варшавского восстания, спасается от преследователей на окраине провинциального городка среди каких-то развешанных белоснежных полотнищ, может быть простыней. Обагряя кровью сии символы чистоты и невинности, смертельно раненный, он выбирается на мусорный пустырь, на котором и кончает свое земное поприще. Эта сцена мою знакомую и потрясла: «Гениально! Старое умирает на свалке!»
Для нас, смотревших «Пепел и алмаз» другими глазами, все старое сосредоточилось как раз на противоположном полюсе: ностальгирующий по республиканской Испании однопартийный резонер с граммофоном ни в какое сравнение с нашим импульсивным современником, пренебрегающим — ради чести — и любовью и жизнью, не шел (Цибульский, хотя действие фильма относилось к 1945 году, принципиально играл своего героя в немыслимых дымчатых очках, небрежной распахнутой фирменной куртке и узких брюках, а за одни такие брюки — дико вспомнить — в Ленинграде конца пятидесятых можно было вылететь из школы или попасть в участок, да еще на следующий день прочитать про себя в каком-нибудь газетном подвальчике: мол, «не за узкие брюки, а за хулиганские трюки…»).
Словом, как в свое время острил Виктор Шкловский, фильмы, в которых буржуазия, разлагаясь, танцует фокстрот, не что иное как тот же фокстрот, «только благочестиво поданный». Правда тут недосказана ввиду ее ослепительности: условностью в искусстве восточного недоразвитого социализма вытанцовывался не «фокстрот», а «буржуазия».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: