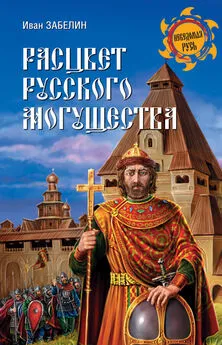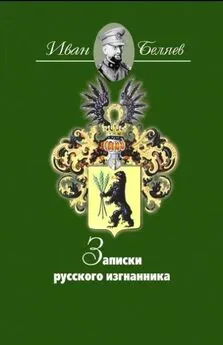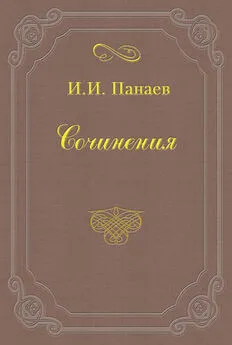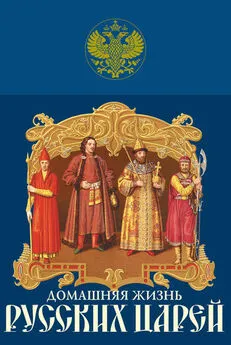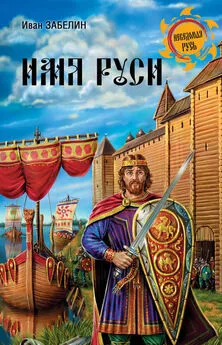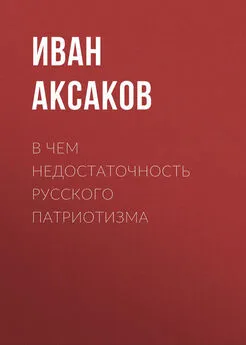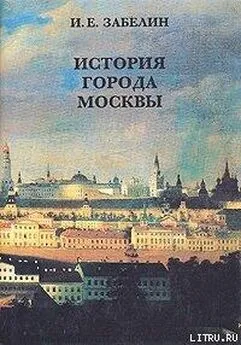Иван Забелин - Расцвет русского могущества
- Название:Расцвет русского могущества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2016
- ISBN:978-5-4444-8619-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Забелин - Расцвет русского могущества краткое содержание
Вниманию читателей предлагается первая часть второго тома известного труда русского историка Ивана Егоровича Забелина (1820–1909) – «История русской жизни с древнейших времен», издававшегося с 1876 по 1879 год. В настоящей книге историк обратился к заре древнерусской государственности, временам первых великих князей – от легендарного Рюрика до Владимира. Анализируя ранние письменные свидетельства Древней Руси – договоры с Византией, – И. Е. Забелин размышляет о внешней и внутренней политике молодого государства, о возрастающей роли великого князя, о нравственной сути славянского язычества.
Расцвет русского могущества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Воспитанник дружины, Святослав, в свой черед сам же первый из князей был ее создателем. При Олеге, при Игоре войско собиралось от всех союзных и покоренных племен и заключало в себе отдельные дружины варягов, славян, чуди, веси, радимичей, северян, полян и пр. Святослав собрал около себя единую русскую, т. е. киевскую, дружину, которая, без сомнения, составилась от всех племен, но в которой собранные богатыри уже забывали свою племенную родину и становились сынами всей Русской земли, а главное, друзьями своего князя. Очень вероятно, что эта дружина набиралась еще в отроческие лета Святослава, подобно тому как другой Святослав, Великий Петр, составил себе из своих же малолетних потешных сверстников целые полки. Мы видели, что в Царьграде с Ольгой находилась также и Святославова дружина, которая даже обедала за царским столом и получила по пяти червонцев на человека в подарок; очень вероятно, что это были детские сверстники Святослава, т. е. дети тех бояр, которые тут же находились в свите Ольги. Стало быть, как Петр, так и Святослав росли вместе с дружиной; с ними заодно, на одном хлебе, вырастала и их дружина, совсем новое, особенное колено людей, совершившее небывалые подвиги. Подобно Петру, и Святослав жил с дружиной душа в душу, ничем не хотел себя отличать от дружины, заодно с нею переносил все труды и походные нужды. В походе он не возил за собой повозок с разным добром, чтобы утешаться на роздыхе сладкой пищей, хорошим питьем или мягкой постелью. Он не брал с собой даже и котла и не варил мяса, а, тонко изрезавши конину, зверину или говядину, жарил прямо на углях, быть может, на копье или на мече, и так и ел. Он не возил с собой и шатра, чтобы укрыться на время отдыха, но расстилал на земле подседельный войлок, в головы клал седло и отлично спал под открытым небом [133]. Так жила и вся его дружина. Вот почему, ведя многие войны, он с той дружиной стремительно и легко, как барс, прядал из страны в другую страну, а потому без боязни посылал врагам наперед сказать: «Хочу на вас идти».
Возросши и возмужавши и собравши много храбрых, Святослав первый свой поход направил на Волгу. Там оставались еще старые счеты его отца, при котором на Волге у хазар, у буртасов и болгар погибла русская рать, возвращаясь из Каспийского похода в 914 году. Русь, по языческому закону, не могла оставлять старых обид без отмщения и помнила их по крайней мере до колена внуков, а теперь собрались именно дети и внуки мстить за смерть дедов и отцов. Кроме того, обиды, как видно, еще продолжались и на Волге; вероятно, испытывалась теснота для русских торгов, особенно для Новгорода. Святослав вышел, стало быть, с намерением очистить как следует волжский путь и с этой целью, быть может, собирал так много храбрых. Из Киева он плыл в лодках по Десне и по Оке. По Десне жили свои люди, северяне, а на Оке сидело племя вятичей, еще независимое от Киева. «Кому дань даете?» – вопросил их Святослав. «Козарам дань платим, даем по щлягу от рала », – отвечали вятичи. Должно полагать, что Святослав очень хорошо знал об этом и прежде, но летописец, верный своей мысли начинать всякую историю с пустого места, только объяснил этим переговором независимость вятичей от Киева. Святослав промолчал и поплыл дальше. Ясно, что в это время его цели не простирались еще на вятичей. Если он думал о волжских болгарах и хазарах, то с вятичами в это время воевать не следовало, ибо они, хотя бы и побежденные, все-таки остались бы в тылу русской рати, шедшей, по-видимому, прежде всего на камских болгар, где бог весть что могло случиться. На возвратном пути, при бедственном окончании похода, вятичи могли быть очень страшными. Русская летопись тоже ничего не сказала о волжских делах Святослава, а прямо говорит о войне с хазарами. Но если поход шел по Волге, то чтобы добраться до хазар, т. е. до самого моря, надо было сначала переведаться с болгарами и буртасами. Арабский писатель Ибн-Хаукаль и говорит, что теперь (976 год) не осталось и следа ни от булгара, ни от буртаса, ни от хазара. Руссы, говорит он, истребили их всех, отняли у них все их области и присвоили себе [134]. Те, которые спаслись от их рук, все разбежались по ближним местам, все еще желая остаться на своей родине и надеясь условиться с руссами о мире и покориться им. «Руссы разрушили все, овладели всем, что было по реке Волге булгарского, буртаского, хазарского», – прибавляет Хаукаль и указывает год этого подвига – 969-й. По русской летописи, Святослав пошел на Волгу в 964 году, на хазар в 965 году, и можно полагать, что он очищал тамошний путь в течение четырех или пяти лет. Вместе с тем он разрушил хазарский город Саркел на Дону и добрался даже до ясов и касогов, которых тоже победил и таким образом занес русскую границу на самую Кубань, т. е. до Киммерийского Боспора, где потом является наше русское Тмутараканское княжество.
Однако вятичи не устрашились такого погрома, и несмотря на то что их властители хазары были рассеяны Святославом, они все-таки не поддавались, и Святослав принужден был идти на них особым походом, победил их и возложил дань.
Само собой разумеется, что от этих славных походов была привезена в Киев славная добыча. И княжеская казна, и хоромы дружинников наполнились всяким азиатским добром, добытым в булгарских и хазарских городах, а буртасы, вероятно, поплатились дорогими мехами; не говорим о пленных, которые всегда составляли одну из главных добыч на войне.
Но это было только начало подвигов, и славное начало! Русским мечом были прочищены все пути на Дальний Восток. Славянская или русская река Волга, как ее прозывали арабские писатели, на самом деле вполне стала русской, а с нею вместе освободились и стали тоже русскими Дон с Азовским морем и проливом, в который прежде, не более 25 лет назад, так трудно было пробраться русским ладьям. Русь близко придвинулась к магометанскому миру, и естественно, что и сама открыла двери его влиянию даже в своем средоточии, в Киеве. Лет чрез 20 магометанство уже хлопочет о водворении в Киеве своей веры.
В то время как Святослав барсом скакал по этим местам, разнося повсюду славу и страх русского имени и собирая в Киеве добытые богатства, однажды в Киев же к нему прибыл посол от греческого царя, знатный вельможа и сын корсунского градоправителя, именем Калокир. Он привез тоже много золота и приехал с тем, чтобы подвинуть Святослава на войну против славянских болгар, которые издавна очень теснили греков. С давних времен болгары наносили грекам постоянные беспокойства своими набегами и войнами, разоряя и опустошая греческие области из конца в конец. В Царьграде сложилась даже пословица, которая всякий случай какого-либо разорения и опустошения именовала добычей мизян – так назывались у греков болгары по имени старой области, где они поселились на жительство. Это значило то же, что наше присловье: как Мамай воевал. Несмотря на то что болгары были уже целых сто лет христианами, их ссоры с греками не прекращались. Главными поводами к войнам бывали со стороны же греков торговые стеснения и разные другие греческие неправды. При Олеге славный болгарский царь Симеон не раз приводил в страх и трепет сам Царьград. Для греков не было никакой возможности укротить такого врага по той причине, что болгары жили в лесистой и гористой стране, где всюду опасность на опасности; за горным и лесным местом следовало утесистое и наполненное оврагами, а там болота и топи, – нельзя пройти, а если пройдешь, нельзя выйти. В этой земле греческие войска очень часто погибали без остатка. Много гибло там знатных полководцев, а греческие цари очень хорошо помнили, как в начале IX века (811 год) один из них, Никифор, зашедший в Болгарскую землю, пропал там со всем войском; как царская его голова, воткнутая на кол, выставлялась долгое время всем напоказ, а потом, по скифскому обычаю, череп его был оправлен в золото и служил братиной на веселых попойках у болгарской дружины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: