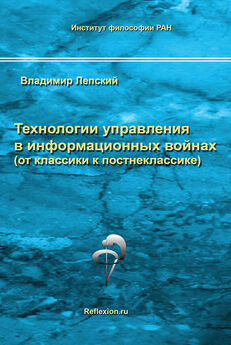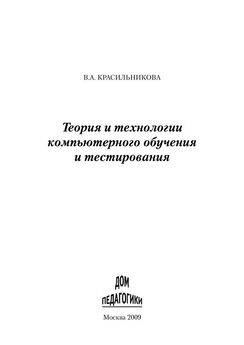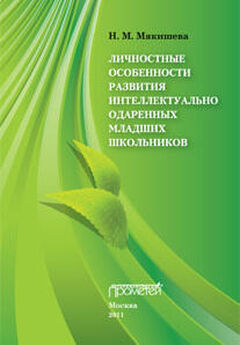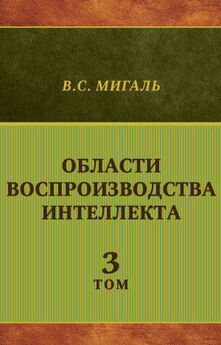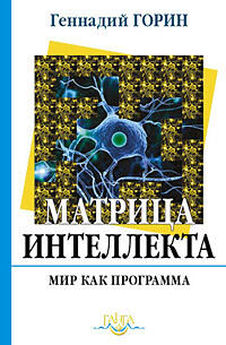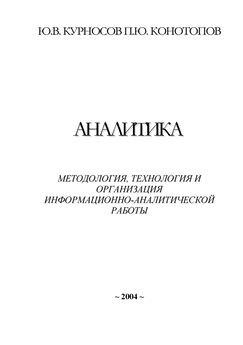Ирина Алексеева - Интеллект и технологии. Монография
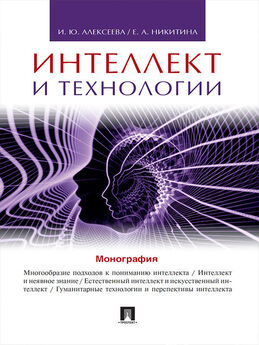
- Название:Интеллект и технологии. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2016
- ISBN:9785392204434
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Ваша оценка:
Ирина Алексеева - Интеллект и технологии. Монография краткое содержание
Интеллект и технологии. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Преувеличенное представление о возможностях «экономикс» как общественной науки, охватывающей проблемы, связанные с достижением целей наилучшими методами, а также идеалы конкуренции и рынка 21лежит в основе управленческих «новаций» в сфере образования и науки. Здесь разрабатываются все новые и новые псевдоэкономические и «экономиксоподобные» модели и подходы, создающие иллюзию объективности и точности в оценке качества образования, эффективности и конкурентоспособности организации и так далее, и тому подобное.
Примером принятого в таком духе «рационального» решения о наилучшем использовании ограниченных ресурсов может служить рисовавшаяся недавно перспектива создания «умной экономики» в России за счет «завоза» в страну ученых из-за рубежа. В самом примитивном смысле ученые уподобляются товару, а государство – покупателю, выбирающему, на что выгоднее потратить имеющиеся деньги: на финансирование деформировавшегося вследствие пребывания на «голодном пайке» в течение более чем двух десятилетий отечественного научно-образовательного комплекса или на импорт тех производителей знаний, которые смогли развиться в условиях несравненно более благоприятных, чем российские. В менее упрощенных контекстах ученые уподобляются высококлассным зарубежным бухгалтерам, которых удалось привлечь на работу в российские компании. Однако в обоих случаях не учитываются ни особенности мотивации ученого, ни системные факторы, способные создавать серьезные препятствия для реализации творческого потенциала личности.
Возможно, историку будущего покажется странным, что в постсоветской России осуществлялись идеи и модели усовершенствования школьного образования, выдвинутые и поддерживаемые не учителями, психологами и педагогическими университетами, а экономическим вузом и учеными-экономистами (преимущественно «экономиксической» ориентации). Так был введен, несмотря на протесты общественности, учителей и родителей, единый государственный экзамен, переориентировавший школьного учителя с развития ребенка и обучения его основам предмета на выработку умения выбирать удачные ответы на бланках ЕГЭ. Возможно, покажется непонятным и то, что так называемая модернизация образования – не только финансового, а вообще всего – осуществлялась по программам Всемирного банка. Разве банк – это организация, которая лучше других разбирается в образовании? Здесь могут, конечно возразить, что банк приглашал экспертов… Но каким волшебным образом банк может определить круг лучших экспертов по образованию?
Распространение на сферу образования и науки банковских идеалов вычислимости, мониторинга и отчетности ведет, в конечном счете, к конструированию некой «противо-сути» этих сфер интеллектуальной деятельности. Заботы, связанные с воспитанием ребенка и поиском методов обучения, учитывающих изменения в восприятии и памяти человека под воздействием современной информационной среды, вытесняются хлопотами по приспособлению к технологиям «педагогических измерений». Возведение «измерения» в ранг более высокий по сравнению с оценкой предполагает существенный культурный сдвиг, ибо оценка существует в ценностном контексте. Оценка знаний школьника или студента, выражаемая числом, никогда не была и не может быть результатом измерения в собственном смысле слова, она не может и не должна претендовать на точность, сопоставимую с точностью измерения роста того же человека в кабинете антропометрии.
Авторы работ по экономике знаний сетуют на сложности измерений, обусловленные необычностью знания как экономического ресурса. Знание в сфере бизнеса измеряют, например, вычисляя разницу между размером доходов от реализации интеллектуальных продуктов и затратами материальных и финансовых ресурсов на производство таких продуктов (затраты в подобных случаях, как правило, невелики или относительно невелики). Подсчитывают также разницу между рыночной и бухгалтерской стоимостью высокотехнологичного бизнеса – весьма впечатляющую, когда речь идет о таких фирмах, как «Майкрософт» 22.
Включение сферы науки в область экономики знаний способствует распространению такой формы псевдоэкономического позитивизма, как позитивизм библиометрический. Количественные характеристики различных категорий научных публикаций, содержащиеся в соответствующих базах данных, вырываются из контекста библиометрии и науковедения, используются как способ измерения знания, производимого в науке, возводятся в ранг «объективной» основы оценки всей деятельности ученого и оплаты его труда.
Выстраивание научной политики на основе трактуемых в псевдоэкономическом духе принципов свободы выбора и конкуренции предполагает, что государство как владелец материальных и денежных ресурсов использует их по своему усмотрению, отдавая предпочтение тем научным организациям и ученым, которые предоставляют наиболее конкурентоспособные услуги и продукцию. При этом упускается из виду, что само применение понятия конкурентоспособности к сфере научной работы и ее результатов возможно лишь в весьма ограниченных пределах и с существенными поправками, учитывающими особенности данного вида человеческой деятельности.
Псевдоэкономическая модель науки сводит эту важнейшую и сложнейшую сферу общества к искажающим ее смысл системам индикаторов и показателей. Иллюзия обладания точными средствами измерения продуктивности «сектора генерации знаний» создает удобства для «эффективных менеджеров», не имеющих подготовки, необходимой для адекватного видения сложнейших объектов, управление которыми им доверено осуществлять. Между тем исследователям прекрасно известно, сколь непростой бывает связь между показателями публикационной активности с одной стороны и научными открытиями, созданием новых теорий и концепций, выдвижением прорывных идей – с другой.
Не удивительно, что конструирование «противо-сути» науки в духе библиометрического позитивизма встречает сопротивление научного сообщества. Так, в докладе «Статистики цитирования», подготовленном Международным математическим союзом, показывается ущербность самой идеи оценки исследовательской деятельности с помощью «простых и объективных» методов, основанных на данных цитирования. «Стремление к большей прозрачности и подотчетности в академическом мире, – пишут авторы доклада, – создало «культуру чисел», когда ученые и отдельные лица полагают, что справедливые решения могут достигаться путем алгоритмической оценки некоторых статистических данных; будучи не в состоянии измерить качество (что является конечной целью), лица, принимающие решения, заменяют качество числами, которые они измерить могут» 23. Авторы выражают тревогу по поводу «мистической веры в волшебную силу» индексов цитирования и других библиометрических показателей, все более отчетливо проявляющейся в национальных и ведомственных программах развития науки. В докладе подчеркивается, что подобные инструменты являются слишком грубыми для того, чтобы довольствоваться ими в оценке столь важной сферы, как научные исследования.
Шрифт:
Интервал:
Закладка: