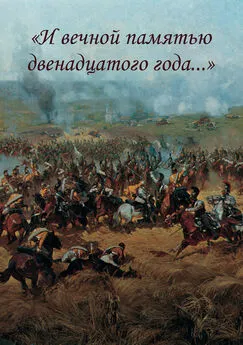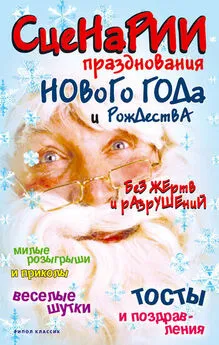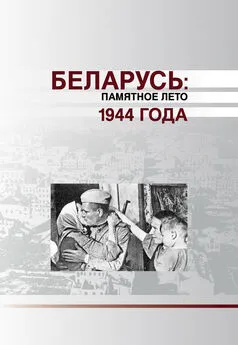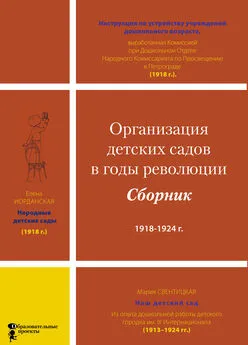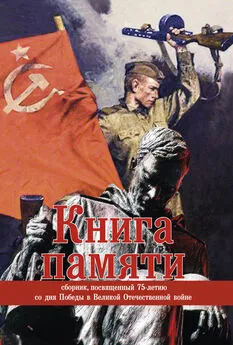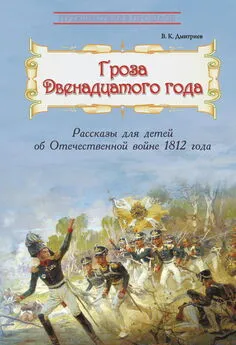Коллектив авторов - «И вечной памятью двенадцатого года…»
- Название:«И вечной памятью двенадцатого года…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент БИБКОМ
- Год:2013
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7996-1080-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «И вечной памятью двенадцатого года…» краткое содержание
«И вечной памятью двенадцатого года…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то, что ни власть Антихриста так и не была установлена во время войн с Наполеоном, ни пришло Царство Божие на землю, произведения о «Аполионе-Антихристе» продолжают переписываться на протяжении всего XIX в. Староверы не перестают верить в скорый приход Антихриста и последующее блаженство на небе для праведников. Несмотря на отличия в отношении к власти и «миру» между старообрядческими толками, а также различное понимание и трактовку времени и формы прихода Антихриста, эсхатологические сюжеты не теряют своей значимости не только в XVIII–XIX вв., но и в XX в. Самыми радикальными течениями любая власть – императорская или советская – расценивалась как власть Антихриста, а природно-климатические катастрофы лишь «подливают масла» в огонь. Вера в наступление последних времен, а также попытки либо предугадать, либо вычислить их наступление, всегда были и будут одной из важнейших элементов религиозной культуры староверов.
©©Романюк Т. С., 2013Раздел 2 «Гроза двенадцатого года»: исторические коллизии и русская литература XIX в
«И жизнь, и к родине любовь…»: год 1812-й в личной и творческой судьбе К. Н. Батюшкова
С. И. Ермоленко
Статья посвящена 1812-му году – переломному в личной и творческой судьбе К. Н. Батюшкова. Рассматриваются произведения, созданные под впечатлением событий 1812 г. и Заграничного похода русской армии 1813–1814 гг., участником которого был поэт. Отмечаются изменения в лирике Батюшкова, связанные с пересмотром прежних эстетических принципов. Обосновывается новаторство поэта в разработке военной темы, обнаруживающееся в трансформации традиционных жанров (элегии, послания), что обогащало русскую поэзию и открывало новые пути ее развития.
Ключевые слова: К. Н. Батюшков; война 1812 г.; личная и творческая судьба; лирика; элегия; послание; традиции и новаторство.
«В половине 1812 г., – писал обозреватель журнала «Сын отечества» (1815) Н. И. Греч, – грянул гром, и литература наша сначала остановилась совершенно, а потом обратилась к одной цели – споспешествованию Отечественной войне. В продолжение второй половины 1812 г. и первой 1813 г. не только не вышло в свет, но и не написано ни одной страницы, которая не имела бы предметом тогдашних происшествий» 137 137 Цит. по: Сидоров Н. П. Отечественная война в русской лирике // Отечественная война и русское общество: юбилейн. изд., 1812–1912. М., 1911. Т. 5. URL: http://www.museum.ru/1812/library/sitin/book5_10.html.
.
В ряду первых «страниц», посвященных войне 1812 г., были и принадлежащие К. Н. Батюшкову, не только современнику, но и участнику тех исторических событий.
В июне 1817 г. в письме к В. А. Жуковскому К. Н. Батюшков с грустью вопрошал: «Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?» 138 138 Батюшков К. Н. Избранная проза. М., 1988. С. 408.
. Батюшков действительно был участником «трех войн»: войны с Наполеоном 1807 г. (в битве под Гейльсбергом, в Пруссии, его, полумертвого, извлекли из груды раненых и убитых товарищей; рана была настолько тяжела, что поэт даже «боялся умереть не в родине своей»); шведской кампании 1808–1809 гг.; в составе русской армии, разгромившей Наполеона, Батюшков участвует в Заграничном походе и в 1814 г., «покрытый пылью и кровью» (как он скажет в письме к своему другу поэту Н. И. Гнедичу от 17 мая 1814 г.), вступает в побежденный Париж.
1812-й год становится переломным в личной и творческой судьбе Батюшкова. Под влиянием исторических событий эпохи новые идеи и образы входят в его поэзию и изменяют ее характер. Из-за болезни Батюшков не может сразу принять участие в военных действиях (он уже находится в отставке после шведской кампании). Батюшков пишет Н. И. Гнедичу в октябре 1812 г. из Нижнего Новгорода, где собралась «вся Москва»: «От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя» 139 139 Там же. С. 335.
. «Строки этого письма, – замечает В. А. Кошелев, – и по тональности, и по лексике совпадают с посланием “К Дашкову”» 140 140 Кошелев В. А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 153.
.
Послание «К Дашкову» будет написано чуть позже, через несколько месяцев, под впечатлением трех (1812–1813) посещений разоренной и сожженной Москвы. Однако письмо можно рассматривать как своеобразный прозаический набросок будущего стихотворения: точные и емкие поэтические формулы еще не вызрели, но уже определился его пафос, эмоциональная доминанта, обусловленные личным потрясением поэта – очевидца событий, что подчеркнуто многократно повторенным глаголом видел :
Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных!
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом 141 141 Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964 (далее цитируетя по этому изданию с указанием страниц в тексте).
.
Это настойчиво звучащее я видел , четырежды (как и в цитировавшемся выше отрывке из письма) повторенное, подчеркивает авторскую установку на достоверность изображаемого. Об этой достоверности свидетельствуют воспоминания современников:
…все было в пламени. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки; а вследствие расширения воздуха от теплоты буря еще более усиливалась; никогда небо в своем гневе не являло людям зрелища ужаснее этого!
…был самый жесточайший пожар; весь город был объят пламенем, горели храмы Божии, превращались в пепел великолепные здания и домы; отцы и матери кидались в пламя, чтобы спасти погибающих детей, и делались жертвою их нежности. Жалостные вопли их заглушались только шумом ужаснейшего ветра и обрушением стен. Все было жертвою огня 142 142 Цит. по: Катаев И. М. Пожар Москвы // Отечественная война и русское общество Т. 4. URL: http://www.museum.ru/1812/library/sitin/book4_10.html.
.
На эффект достоверности работает не только реальность события, которое становится источником переживания в стихотворении, но и некоторые детали его текста. Это, во-первых, реальность адресата: Дмитрий Васильевич Дашков (1784 –1839) – литератор-карамзинист, один из основоположников «Арзамаса», впоследствии министр юстиции, приятель Батюшкова. Во-вторых, упоминающийся «израненный герой» – генерал А. Н. Бахметьев (1774–1841), отличившийся в Бородинском сражении, где он был тяжело ранен. Батюшков был зачислен адъютантом к Бахметьеву, но из-за болезни последнего он, как известно, во время Заграничного похода русской армии стал адъютантом генерала Н. Н. Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 г., при котором «с лишком одиннадцать месяцев» поэт был «неотлучен, спал и ел при нем» 143 143 См.: Батюшков К. Н. Чужое – мое сокровище [Из записной книжки 1817 г.] // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 412–416.
.
Интервал:
Закладка: