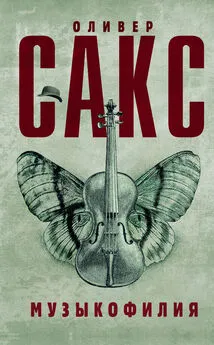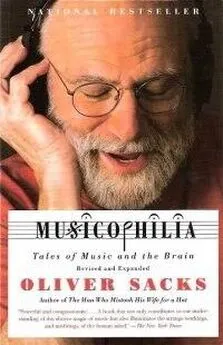Оливер Сакс - Музыкофилия
- Название:Музыкофилия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-17-097165-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливер Сакс - Музыкофилия краткое содержание
Чем гениальность Чайковского отличается от гениальности Вагнера?
Чем обусловлена удивительная любовь к музыке людей с синдромом Вильямса и почему страдающие «амузией», напротив, воспринимают ее как невыносимое нагромождение звуков?
Какие изменения произошли в сознании человека, который, выжив после удара молнии, неожиданно для всех и прежде всего для самого себя стал горячим поклонником Шопена и даже выучился играть на фортепьяно для того, чтобы иметь возможность исполнять его произведения?
Музыкофилия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В это же время я также начал слышать голос отца, который звал меня по имени. (Были у меня и зрительные галлюцинации – я явственно видел акулий плавник в волнах.) Мои спутники тут же развеяли мои впечатления и подняли меня на смех. По их реакции я понял, что акулий плавник над водой – самое частое видение, преследующее начинающих мореходов».
Несмотря на то что Колмен еще в 1894 году писал о галлюцинациях у здоровых людей с небольшими органическими поражениями сенсорных органов, среди широкой публики и даже среди врачей господствовало убеждение, что «галлюцинации» – это всегда психоз или тяжелое органическое поражение головного мозга [27]. Нежелание видеть в галлюцинациях распространенный среди психически здоровых людей феномен продолжалось до семидесятых годов двадцатого века и было, вероятно, обусловлено отсутствием теории о том, как, собственно, возникают галлюцинации. Это положение сохранялось до 1967 года, когда Ежи Конорский, польский нейрофизиолог, посвятил несколько страниц своей книги «Интегративная активность головного мозга» «физиологическим основам галлюцинаций». Конорский по-новому поставил старый вопрос «почему возникают галлюцинации?», спросив вместо этого: «Почему галлюцинации не преследуют нас все время? Что их сдерживает?» Ученый постулировал существование динамической системы, которая «может порождать образы и галлюцинации… механизм порождения галлюцинаций встроен в наш мозг, но действовать этот механизм начинает только в исключительных условиях». Конорский собрал доказательства – слабые в шестидесятые годы, но ставшие в наше время весьма убедительными – того, что существуют не только афферентные связи, соединяющие органы чувств с мозгом, но и связи, идущие в противоположном направлении. Такие обратные связи очень слабы по сравнению с афферентными связями и, как правило, не проявляют активности в обычных условиях. Но Конорский предположил, что именно эти связи являются теми анатомическими и физиологическими средствами, с помощью которых возникают галлюцинации. Но что – в обычных условиях – препятствует появлению галлюцинаций? Решающим фактором, считал Конорский, является сенсорный вход, связывающий периферические органы чувств – глаза, уши и другие – с головным мозгом. Этот поток входящей информации подавляет обратный поток, направленный от мозга к периферии. Но если имеет место дефицит входящих стимулов от органов чувств, обратный поток облегчается и порождаются галлюцинации, физиологически и субъективно не отличимые от реального восприятия.
Теория Конорского давала простое и изящное объяснение тому, что было названо галлюцинациями «освобождения», сочетающимися с «деафферентацией». Такое объяснение кажется сейчас очевидным и даже тривиальным – но в шестидесятые годы оно требовало оригинальности мышления и смелости.
В настоящее время теорию Конорского можно убедительно подтвердить результатами исследований мозга современными методами визуализации. В 2000 году Тимоти Гриффитс опубликовал первое подробное сообщение о неврологических основах музыкальных галлюцинаций. Гриффитс смог, используя позитронную эмиссионную томографию, показать, что музыкальные галлюцинации сочетаются с обширной активацией тех же нейронных сетей, которые в норме активируются при восприятии реальной музыки.
В 1995 году я получил очень живое письмо от Джуны Б., очаровательной творческой женщины семидесяти лет, которая рассказала в нем о своих музыкальных галлюцинациях:
«Впервые они появились в ноябре прошлого года, когда я пришла в гости к своей сестре и ее мужу. Мы выключили телевизор, и я уже собралась уходить, когда мне послышалось звучание песни «Божья Благодать». Ее пел хор, снова и снова. Я поинтересовалась у сестры, не слушают ли они по телевизору церковную службу, но оказалось, что по понедельникам они смотрят футбол. Я вышла из их каюты и поднялась на палубу. Я смотрела на воду, а музыка продолжала звучать у меня в ушах. Я посмотрела в сторону берега, увидела несколько домов со светящимися окнами и поняла, что звуки доносились не извне. Они рождались в моей голове».
К письму миссис Б. приложила «репертуар», включавший «Чудную милость», «Боевой гимн Республики», «Оду к радости» Бетховена, «Застольную» из «Травиаты», «Э-тискет, э-таскет» и очень унылую версию «Мы, три восточных царя».
«Однажды вечером, – писала миссис Б., – я услышала превосходное сольное исполнение «Была у старика Макдональда ферма», сопровождавшееся неистовыми аплодисментами. Тут я окончательно поняла, что у меня съехала крыша и что мне стоит обратиться к врачу».
Миссис Б. писала, что прошла обследование на предмет болезни Лайма (она где-то читала, что эта болезнь может сопровождаться музыкальными галлюцинациями), потом ей сделали аудиометрию с вызванными в стволе мозга потенциалами, сделали ЭЭГ и МРТ. Во время регистрации ЭЭГ она слышала «Звон колоколов Святой Марии», но никаких отклонений на ЭЭГ не оказалось. У миссис Б. не было никаких симптомов снижения слуха.
Музыкальные галлюцинации возникали по большей части в покое, особенно во время отхода ко сну. «Я не могу по желанию включить или выключить эту музыку, но иногда могу сменить мелодию – не на всякую, а только из списка запрограммированных. Иногда песни перекрываются, и тогда я теряю терпение, включаю свою любимую радиостанцию и ложусь спать под настоящую музыку» [28].
«Мне повезло, – писала в конце миссис Б., – что моя музыка не очень громкая. …Если бы она была громче, я просто сошла бы с ума. А так она берет свое только в определенные моменты. Любое звуковое отвлечение – беседа, радио, телевизор – мгновенно подавляет любую галлюцинацию. Вы пишете, что я смогла «подружиться» с новыми ощущениями. Ну да, я научилась справляться с ними, но иногда музыка сильно меня раздражает. …Например, когда я просыпаюсь в пять утра и не могу снова уснуть, потому что слушаю хор, напоминающий мне о том, что «старая пегая кляча никогда не станет такой, как прежде». Это не шутка. Это действительно произошло, и было бы очень забавным, если бы припев не повторялся бесконечно, как на старой треснутой пластинке».
Я лично встретился с миссис Б. через десять лет и спросил, не стали ли за прошедшие годы музыкальные галлюцинации «важной» частью ее жизни, и если стали, то в каком смысле – положительном или отрицательном. «Если бы они вдруг исчезли, – спросил я, – то вы бы радовались или скучали?» – «Я бы скучала, – без промедления ответила миссис Б., – я бы скучала по музыке. Знаете, она стала частью моего существа».
Итак, нет никаких сомнений в наличии физиологической основы музыкальных галлюцинаций, но мы вправе поставить вопрос о том, в какой мере другие факторы (назовем и их «физиологическими») могут участвовать в «отборе» галлюцинаций, в их эволюции и роли. Я задался этим вопросом в 1985 году, когда писал о миссис О'К и миссис О'М. Уайлдер Пенфилд тоже интересовался, есть ли смысл и значение в песнях или сценах, возникающих во время «чувственных припадков», и пришел к выводу, что такого смысла нет. Отбор галлюцинаторной музыки, сделал он вывод, происходит совершенно случайно, если не считать того, что при этом вырабатывается нечто вроде коркового условного рефлекса. Родольфо Льинас писал нечто похожее о непрерывной активности в ядрах базальных ганглиев и о том, что они, «как представляется, действуют словно генератор случайного шума». Если время от времени какой-нибудь фрагмент или несколько нот прорываются в сознание, полагал Льинас, то происходит это совершенно абстрактно, вне зависимости от эмоционального состояния субъекта. Но дело в том, что иногда какой-то феномен начинается как нечто случайное – например, тик, вырывающийся из перевозбужденного базального ганглия, – а затем обрастает ассоциациями и приобретает смысл.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: