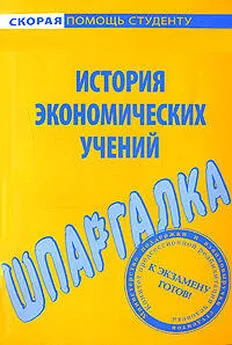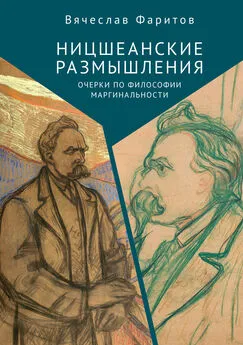Вячеслав Фаритов - Онтология трансгрессии. Г. В. Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадигмы (из истории метафизических учений)
- Название:Онтология трансгрессии. Г. В. Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадигмы (из истории метафизических учений)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-53-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Фаритов - Онтология трансгрессии. Г. В. Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадигмы (из истории метафизических учений) краткое содержание
Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.
Онтология трансгрессии. Г. В. Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадигмы (из истории метафизических учений) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, благодаря эстетическим идеям обусловленное (предметное, чувственно воспринимаемое) не упирается в безусловное как в свой предел и тупик, но появляется возможность изображения (хотя и негативного) бесконечного в конечном. Сверхчувственное осуществляется через чувство возвышенного, через эстетические идеи в чувственно воспринимаемом мире. Тем не менее, здесь происходит нечто большее, чем простая негация чувственности, как в практическом применении разума. Практическая реализация идеи свободы обеспечивает только возможность определения воли без опоры на чувственность, без опоры на налично-данное. Обеспечивается возможность выхода из ряда обусловленного и самоопределения не на основании этого ряда. Две бытийные сферы пересекаются, проходят сквозь друг друга, но сохраняют свою автономность: человек свободен как ноумен, реализующий отрицание чувственности (становящийся ноуменом в этом отрицании), но как принадлежащий чувственному миру он подчинен всем его законам и обусловлен уходящим в бесконечность рядом условий. Трансгрессия в данном случае относительна. В свою очередь в эстетическом дискурсе происходит не пересечение, но именно наложение двух сфер: оставаясь в предметном мире, мы соотносимся с чем-то абсолютно большим. Предметный мир не отрицается, но, взяв на себя роль представителя и выразителя сверхчувственного, неизбежно терпит поражение, вскрывая свою несостоятельность в этом плане. Однако это поражение не отбрасывает нас назад к дискурсу предметности, не замыкает в нем, но делает его прозрачным. Потерпев неудачу в притязании на изображение сверхчувственного, чувственный мир обнаруживает свою собственную несамодостаточность и открывается сверхчувственному – подобно тому, как свет уличных фонарей постепенно тускнеет и становится совсем незаметным с наступлением утра.
Чувственный мир начинает выражать отсутствие первоначала (сверхчувственного), его недостижимость и невыразимость. Но поскольку само сверхчувственное в кантовской философии становится лишь пустым местом для возможных, но отсутствующих сущностей, постольку, выражая отсутствие, феноменальный мир выражает именно сверхчувственное как таковое: как то, что отсутствует в предметной сфере, как неприсутствие в присутствии, как пустое место, как Ничто этого мира. В этом пункте содержится возможность выхода за пределы метафизического способа мышления: сверхчувственное обнаруживает себя в предметной сфере, оно всегда здесь как изначальная неполнота этой сферы и как невозможность прийти к полноте путем восхождения к первоначалу, поскольку первоначала нет. Это означает, что нет и потустороннего, нет другого мира. Но есть имманентные способы бытия, перспективы и дискурсы, которые пересекаются друг с другом, накладываются друг на друга, дополняют и корректируют друг друга, вместе образуя сложный, неоднородный и многообразный план бытия.
Однако Кант продолжает держаться за метафизическую форму, несмотря на фактическое устранение метафизики в ее содержательном аспекте. Поэтому кенигсбергский философ продолжает полагать высший сверхчувственный мир в горизонте трансценденции, продолжает искать следы проявления этого мира в нашем мире. В определенной степени метафизические поиски Канта сопоставимы с центральным пунктом учения Ницше – тезисом о смерти Бога (взятым, прежде всего, в метафизическом аспекте своего содержания). [152] См. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» / М. Хайдеггер // Ницше и пустота. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – С. 9–79.
Ницше принимает это событие и продумывает (и переживает) его до конца. Кант не принимает, оставаясь служителем того, чего больше нет («Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen: «Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch Nichts davon gehört, dass Gott tot ist\»). [153] Nietzsche F. Also sprach Zarathustra / F. Nietzsche // Gesammelte Werke. – Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2012. – S. 366.
Трансценденция в его учении становится очищенной от всякого позитивного содержания, которое теперь относится к ведомству «догматической» и «наивной» метафизики. Область сверхчувственного превращается в нулевое означаемое, которое может проблематически («как если бы») наполняться всеми теми содержаниями, которые полагались наивной метафизикой непосредственно: Богом, душой, свободой. Но содержание трансценденции этим нисколько не спасается. Если одним из базовых положений Ф. де Соссюра является тезис о конвенциональном характере означающих, то заслугой Канта можно считать наиболее последовательное обоснование тезиса о конвенциональности трансцендентального означаемого. Необходимость трансценденции (вещей в себе, равно как и Бога, души, свободы) не есть доказательство ее существования. Хотел ли того Кант или нет, но в его учении трансценденция разоблачается в качестве лишь неотъемлемого компонента дискурсов природы и свободы. Позитивным в его философии является концепция границы: после того, как трансценденция фактически утратила свое позитивное содержание, именно данный феномен становится центральным пунктом выстраивания метафизической системы. Граница очерчивает область и пределы дискурса природы и позволяет обнаружить пути перехода к конституированию дискурсу свободы.
Кантовское понимание границы впоследствии нашло свое воплощение в работах К. Ясперса. В его учении тенденции философии Канта раскрылись в наиболее прозрачной и отчетливой форме – настолько, что Ясперса можно считать подлинным последователем, прежде всего, Канта, а уже потом Кьеркегора, Шеллинга и Ницше. [154] Обстоятельство, позволившее X. Арендт назвать Ясперса «воскресшим Кантом» (См.: Гайденко П. П. Учение Канта и его экзистенциальная интерпретация // Философия Канта и современность / Под ред. Т. И. Ойзермана. – М.: Мысль, 1974. – С. 404).
Ясперс полностью принимает тезис Канта о непознаваемости и недоступности ноуменального мира, бытия как такового, и строит на этой основе свою метафизику слияния с бытием на границе. Наше познание, ориентированное в своих рассудочных категориях лишь на конечную предметную сферу, с неизбежностью обнаруживает свою несостоятельность в постижении бытия в целом. Такое поражение разума приводит к раскрытию границы в качестве положительного феномена, что позволяет особым образом трансцендировать конечную предметность в направлении бесконечного.
Трансценденция в понимании Ясперса предполагает уже не выход за пределы границы в противолежащую область, но переход в особое состояние нахождения на самой границе. В таком экзистенциальном состоянии обнаруживается конечность и зыбкость всего предметного и, как следствие, невозможность для человека опереться на эту сферу в поисках смысла своего существования. Отсюда – необходимость соотношения с иным, с бесконечным, которое объемлет все конечное. Но такое соотношение, по Канту, рассматривающему все знание исключительно как предметное, не есть знание. Ясперс уточняет – оно не есть лишь предметное знание, но все же представляет собой знание – знание беспредметное. Философия и есть такое беспредметное знание: «Этот ход мыслей не убедителен для каждого, подобно эмпирическому и рациональному познанию конечных предметов, но убедителен для того, кто применяет его, кто, трансцендируя в нем все конечное, узнает вместе с конечным и бесконечное. Продвигаясь вдоль границы, он вынужден чувствовать границу как границу; методически он преодолевает с помощью категорий именно эти категории, в незнании он обнаруживает новый способ беспредметного знания». [155] Ясперс К. Философская вера / К. Ясперс // Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 434.
Интервал:
Закладка: