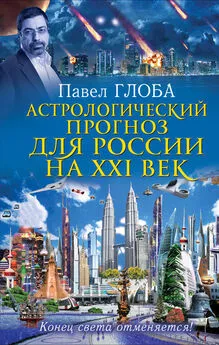Леонид Бляхман - Глобальные, региональные и национальные тенденции развития экономики России в XXI веке. Избранные труды
- Название:Глобальные, региональные и национальные тенденции развития экономики России в XXI веке. Избранные труды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2016
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-288-05677-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Бляхман - Глобальные, региональные и национальные тенденции развития экономики России в XXI веке. Избранные труды краткое содержание
Книга адресована экономистам, политологам, политикам и всем, кому небезразлична судьба России.
Глобальные, региональные и национальные тенденции развития экономики России в XXI веке. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переход к инновационной экономике требует новой индустриализации – создания новых и повышения наукоемкости традиционных производств, обеспечивающих устойчивый спроc на нововведения и эффективную занятость. Рыночный фундаментализм привел США, Великобританию, Россию и ряд других стран к деиндустриализации. Как показано в публикациях [51; 52], вместо сетевой модели, дающей реальную экономию на трансакционных издержках (Incremental innovation), был избран более прибыльный путь – перевод производства в страны с низкой оплатой труда. С 2000 г. США потеряли около 10 млн рабочих мест, 98% одежды ввозится из-за рубежа. В Нью-Йорке промышленность (опора среднего класса) практически ликвидирована. Бухгалтерия, торговые и юридические операции переводятся в другие регионы и страны. В Британских Виргинских островах с населением 30 тыс. человек зарегистрировано, по данным МВФ, 457 тыс. фирм, а на Каймановых островах – 75% хеджфондов мира. Треть населения Нью-Йорка, занятая в информатике, финансах, науке, юриспруденции, медицине, имеет высокие доходы, но две трети заняты в торговле, общественном питании и других сферах услуг, получая 20–30 тыс. долл. в год, из которых до половины уходит на оплату жилья. Эксперты настаивают на развитии в штате точного приборостроения, отделки тканей, трехмерной печати и т. д., чтобы создать и обновить 3,8 млн рабочих мест. В США в целом дорогостоящими услугами (финансы, инжиниринг, архитектурное планирование и т. д.) занято лишь 300 тыс. человек. Крупные ТНК («Форд», «Сименс», «Шарп», «Моторолла», «Рено-Ситроен» и т. д.) сокращают число сотрудников.
Различные страны используют свои конкурентные преимущества для поиска особых путей перехода к социально-инновационной экономике. В США применяют финансовую ренту для введения новых экологических и технологических нормативов, реформы образования и т. д. Страны Скандинавии, Германия, Канада, Австралия развивают экологические и высокотехнологичные сектора экономики на базе активной государственной поддержки и наименьшей социальной дифференциации. Германия, Австрия, страны Северной Европы в процессе аутсорсинга сохранили у себя инжиниринг и другие ведущие звенья цепей поставок. Дания стала мировым лидером по разработке и производству энергоэффективного оборудования, а Швеция – по использованию возобновляемых источников энергии (к 2013 г. – 50% энергобаланса) и строительству энергоэффективных зданий.
Новая индустриализация в Китае основана на переходе от развития на базе дешевого труда, минимальных экологических, пенсионных и медицинских расходов, массового освоения зарубежных разработок к созданию стратегических отраслей с собственной логистикой (экологическая и энергосберегающая техника, информатика, биотехнологии, новые материалы и т. д.). Китай превзошел США по доле на мировом промышленном рынке (к 2013 г. более 30%), инвестициям в чистую энергетику (473 млрд долл. по плану на 2013–2017 гг.). Petro China, China Unicom заняли в 2012 г., по данным Всемирного банка, пятое и восьмое места в списке крупнейших компаний мира.
Турция, несмотря на отставание в области технологий и гигантский разрыв в уровне жизни города и села, за 10 лет увеличила производство в 2,5 раза благодаря автомобильной, химической, текстильной, меховой, ювелирной, пищевой промышленности и энергетике.
В России в результате форсированной приватизации и отсутствия промышленной политики для владельцев предприятий, не приносящих природную ренту, наиболее рентабельной оказались продажа материальных запасов и оборудования на металлолом, сдача площадей в аренду. В Москве доля машиностроения в промышленном производстве уменьшилась в 1990-х годах, по данным Росстата, с 43 до 22%. Из 300 станкостроительных заводов в России сохранилось лишь несколько ремонтных фирм. В 2000–2009 гг. промышленный персонал сократился на 23,6%, а выпуск металлорежущих станков и шарикоподшипников – в пять раз. Удорожание добычи полезных ископаемых, рост расходов на экологию и техногенную безопасность при работах на большой глубине и на шельфе, снижение общей ресурсоемкости производства уменьшают роль сырьевых отраслей.
Особенно важны социальные проекты, изменяющие жизнь миллионов людей. По опыту восточных земель ФРГ, замена 1 млн км устаревших сетей водо- и теплоснабжения позволяет резко сократить расходы ЖКХ, уменьшить роль мафии в этой отрасли, резко улучшить комфорт жизни. На базе ООП необходимо массовое строительство энергоэкономичного жилья на ведомственных и полузаконно приватизированных землях. Локомотивом развития экономики должны стать станко- и дорожно-строительное машиностроение, лесной и рыбопромышленный комплексы, ввод в эксплуатацию с помощью кооперативной системы сбыта 40 млн га, выведенных из сельскохозяйственного оборота. Миллионам людей поможет создание новой отрасли социальной инфраструктуры для проживания больных и пожилых людей в сельских регионах, где население не имеет работы.
Обзор инновационных программ [53, c. 68, 69, 71] показал, что большинство российских регионов не готово к развитию и внедрению высоких технологий. Форсирование расходов на НИОКР при отсутствии массового спроса на нововведения не обеспечит обновление экономики.
Новая индустриализация, в отличие от первичной (в первой половине ХХ в.), рассчитана не на привлечение сельских трудовых ресурсов и новых источников сырья, а на создание сетевых инжиниринговых платформ, обеспечивающих трансфер зарубежных и отечественных технологий в традиционное и новое производство. Военно-промышленный комплекс призван обеспечить развитие гражданского авиа-, судо-, авто и энергомашиностроения, электроники, приборостроения, медицинской техники на базе автоматизированного цифрового проектирования и управления жизненным циклом продукции.
Добывающая индустрия, лесной и водный комплексы, АПК могут и должны стать высокотехнологичными на базе углубления переработки сырья. До сих пор, по данным ВШЭ, Канада и Финляндия получают с одного кубометра заготовленной древесины 500– 530 долл., Малазия – 627, а Россия – лишь 90. Пресечение контрабанды из азиатских стран и создание цепей поставок с переносом наиболее трудоемких операций в трудоизбыточные регионы позволят возродить легкую промышленность [54]. Новая индустриализация предполагает создание и модернизацию 20 млн рабочих мест, в том числе на базе импортозамещения в фармацевтике, производстве мясных, рыбных и других продуктов. Импорт занял даже рынок бутилированной воды в водообеспеченной стране (1,5 млрд долл.).
Производительность труда как критерий оценки новой индустриализации
Производительность труда, как справедливо отметил В. И. Ленин, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. В развитых странах в 1850–2010 гг., по оценке Всемирного банка, она выросла в 20 раз, что привело к новому качеству жизни. Производительность в России, по оценке Росстата, как в начале ХХ в., так и в советские годы и до настоящего времени остается в 2,5 раза ниже, чем в странах ОЭСР, и в 3–4 раза ниже, чем в США. По данным US Bureau of Labor Statistics , в 1980–2000 гг. среднегодовой темп прироста производительности составлял 2,2–2,6%, а в 2000-х годах – около 3,5%. Среди факторов ее долговременного роста в 1948–2001 гг. преобладали сдвиги в технологии (1,15% в год), капитальные инвестиции (0,82%) и улучшение качества труда (0,23%). Как показало исследование ОЭСР [55], производительность в современной экономике следует измерять по отношению к затратам не только живого, но и овеществленного в материалах, энергии и основных фондах труда (Multi-factor productivity). От неоклассических моделей рыночного равновесия Solow-Swan, Cass-Koopmans исследователи переходят к динамическим и стохастическим моделям, учитывающим роль человеческого и социального капитала [56]. При сравнении производительности США и стран ЕС оценивалась роль инноваций, аутсорсинга, квалификации и качества труда [57].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




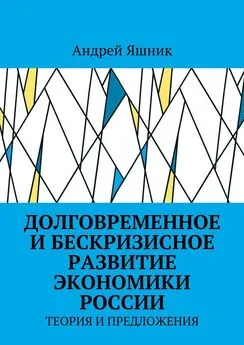
![Павел Брянцев - Литовское государство [От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке] [litres]](/books/1060694/pavel-bryancev-litovskoe-gosudarstvo-ot-vozniknove.webp)