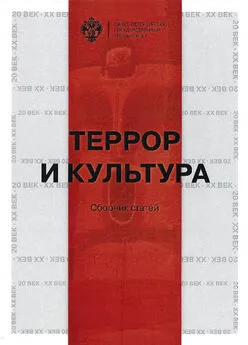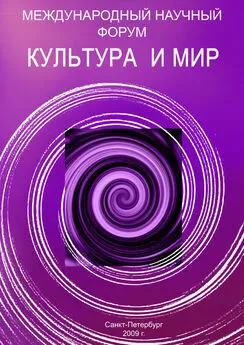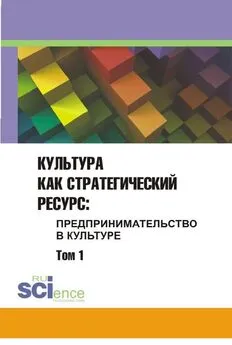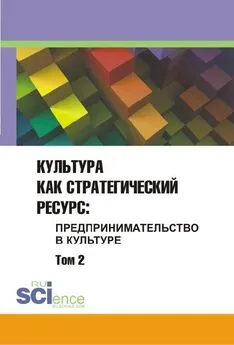Сборник статей - Террор и культура
- Название:Террор и культура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05702-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Террор и культура краткое содержание
Книга представляет интерес для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов.
Террор и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
10. Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 1994.
11. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/01.php.
12. Толковый словарь С. И. Ожегова // URL: http://www.ozhegov.org/words/8352.shtml.
13. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
14. Трегубов Л., Вагин Ю. Эстетика самоубийства. Пермь, 2006.
15. Тюрин Е. А., Зубарев В. Г., Бутовский А. Ю. История древней Центральной и Южной Америки. URL: http://http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&boo.
16. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
17. Цумзайль М. Дискурс о травме в контексте катастроф – опыт переживания сильного горя на острове Ява в Индонезии // Неопределенность как вызов. Медиа. Антропология. Эстетика. СПб., 2013.
Страх и память. Державный террор как основа русской политической культуры
Системообразующая и «паттернообразующая» специфика становления русской политической культуры заключается в том, что она изначально сформировалась как рабско-самодержавная (холопско-господская), поскольку само возникновение русского народа [47]и московской (ставшей позднее российской) государственности происходило в условиях монгольского колониального господства и соответствующего политического менеджмента, т. е. при активном участии «колонизаторов» – ханов и элиты Золотой Орды в целом. Именно по этой причине Россия как политическая цивилизация может быть названа «рабской», ибо политическое рабство явилось фундаментом русско-московского национально-государственного становления.
В той или иной форме об этом высказывались самые разные историки (прежде всего, к слову, отечественные) на протяжении двух с лишним столетий, начиная с Н. М. Карамзина. Именно он одним из первых подметил важнейший аспект: экстраполяцию самодержавно-рабской модели отношений между татарскими ханами и русскими князьями на систему отношений между московскими князьями и их подданными соответственно: «Князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными Властелинами: ибо повелевали именем Царя верховного». По мнению Карамзина, именно фактор пресмыкательства русских князей перед ордынскими ханами стал ключевым в становлении самодержавия – той государственно-правовой системы, в рамах которой этнополитически оформился русский народ: «Совершилось при Моголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III. В Владимире и везде, кроме Новагорода и Пскова, умолк Вечевой колокол… Одним словом, рождалось самодержавие». Нельзя не отметить, что сам Карамзин оценивал этот процесс в целом позитивно, поскольку именно в нем видел залог стабильности и процветания российской самодержавной империи и целостности русского народа: «Сия перемена, без сомнения неприятная для тогдашних граждан и Бояр, оказалась величайшим благодеянием Судьбы для России» [48].
Так же, как и Карамзин, признавая ордынский фактор решающим в деле национально-государственного становления русского народа, Н. И. Костомаров, однако, делал решительный акцент на негативных последствиях этого воздействия: «Падению свободного духа и отупению народа способствовало то, что Русь постоянно была в разорении, нищете и малолюдстве. Князья, сделавшись государями своих волостей, продолжали вести усобицы, но они отзывались гораздо тяжелее для русского народа, чем в прежние времена, потому что у князей входило в обычай приглашать татарские полчища на земли своих противников… Московские князья менее всех были разборчивы в средствах. Во время борьбы Юрия [Московского] с Михаилом [Тверским] несколько раз проходили по Владимирской и Тверской землям помогавшие Юрию татарские орды» [49].
В данном случае важна не морально-политическая оценка, которую дают Карамзин и Костомаров случившейся политико-культурной метаморфозе, а констатация того факта, что порожденное монгольским завоеванием политическое рабство явилось фундаментальным фактором, предопределившим становление русской национальной ментальности и развитие российской истории в целом.
Многие известные представители так называемой государственной школы (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.), а также отечественные историки, работавшие позднее, в советскую эпоху и вплоть до наших дней, склонны, во-первых, минимизировать монгольский фактор в русской истории, а во-вторых, отказывать Орде в конструктивной роли применительно к российскому государственно-правовому становлению, С. М. Соловьев не видел «ни малейших следов татаро-монгольского влияния на внутреннее управление Руси» и вообще отказался пользоваться термином «монгольский период», заменив его понятием «удельный период». «Для него, – отмечает Ричард Пайпс, – монгольское правление было всего лишь случайным эпизодом в русской истории, не имевшим значительных последствий для дальнейшей эволюции страны. Взгляды Соловьева оказали непосредственное воздействие на его ученика Василия Ключевского… который также отрицал значение монгольского нашествия для России» [50]; Ключевский в знаменитом «Курсе русской истории» тоже почти игнорирует монголов, не замечая ни отдельного монгольского периода, ни монгольского влияния на Русь (см. об этом: [51]). Согласно утверждению С. Ф. Платонова, «мы можем рассматривать жизнь русского общества в XIII в., не обращая внимания на факт татарского ига» [52].
Ричард Пайпс называет три причины того, почему «ведущие русские историки столь пренебрежительно отнеслись к монгольскому влиянию на Россию». Во-первых, «они были плохо знакомы с историей монголов в частности и востоковедением в целом». Во-вторых, имел место «бессознательный национализм и даже расизм, выражавшийся в нежелании признаться в том, что славяне могли чему-либо научиться у азиатов». Наконец, в-третьих, летописные своды, в основном и использованные историками в тот период, были составлены монахами и потому отражали точку зрения церкви, которая была в целом лояльна к монголам (гарантировавшим церкви широкие налоговые и имущественные преференции); в связи с этим Пайпс приводит наблюдение другого американского исследователя: «В летописях нет фрагментов, содержащих антимонгольские выпады, которые появились бы между 1252 и 1448 гг. Все записи такого рода сделаны либо до 1252, либо после 1448 г.» [53].
Однако со времени написания Н. М. Карамзиным «Записки о старой и новой России» и «Истории государства Российского» тезис о решающей роли монгольского фактора в становлении российской национально-государственной истории продолжал развиваться и осмысляться.
В 1822 г. под влиянием работ Николая Карамзина молодой русский ученый Александр Рихтер опубликовал первую научную работу, посвященную монгольскому влиянию на Русь, – «Исследования о влиянии монголо-татар на Россию». В ней он обратил внимание на ту особенность морали, сформировавшейся у подчинившейся монголам части древнерусского этноса, которая на языке политической социальной психологии именуется ресентиментом («рабской моралью») [54]. «При господстве монголов и татар, – отмечал Рихтер, – почти переродились русские в азиатцев, и хотя ненавидели своих притеснителей, однако же во всем им подражали и вступали с ними в родство, когда они обращались в христианство» (цит. по: [55]).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: