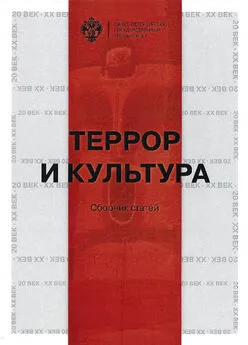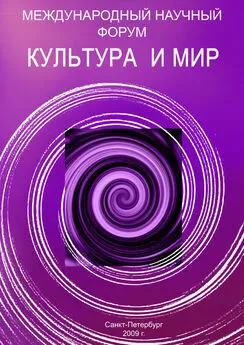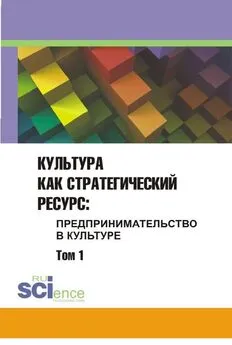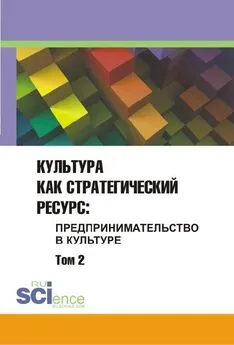Сборник статей - Террор и культура
- Название:Террор и культура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05702-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Террор и культура краткое содержание
Книга представляет интерес для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов.
Террор и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кроме того, и это представляется не менее важным, случаи человеческих жертв должны быть преданы огласке, потому как они наглядно свидетельствуют о том, что у людей может быть необратимо похищен их статус субъекта, а стало быть, никто не в силах сохранить этот статус самостоятельно. Субъектность, вменяемость оказываются отчуждаемыми, как и все остальное. Но такая ситуация опять-таки выгодна для обоснования власти. В самом деле, подобные события как бы демонстрируют нам не только оскал лакановско-жижековского Реального, но и то, что нашу субъектность (в виде прав человека) дарует нам и гарантирует только власть в лице правового государства и только она сама по определению суверенна. Возникает странный парадокс: чтобы ужасы XX в. не повторились, всякий рождается с правами человека наготове, за всяким предполагается чувство собственного достоинства (а не только за некоторой элитой, как это было в обществе традиционном). Но то, что считается присущим нам априори, может быть с легкостью утрачено нами в чрезвычайной ситуации, когда мы оказываемся вытолкнуты из правового пространства во внезапно разверзшуюся «зону аномии». То, что мы не завоевывали, мы не можем сами удержать, и старый добрый классический идеал автаркии, столь дорогой сердцу интеллектуалов, в такой ситуации оказывается просто недостижимым. В этом отношении показательно, что во время антитеррористических операций полная пассивность заложников подспудно приветствуется. «Правильное» поведение в чрезвычайной ситуации предполагает, что следует дождаться, когда о тебе позаботятся профессионалы. Это у них есть право на геройское выполнение долга и самопожертвование (героизм по контракту куда более предсказуем, чем жертвенный энтузиазм, а потому предпочтителен с точки зрения современных машин власти). У мирных же граждан есть обязанность выживать и быть хорошими налогоплательщиками [23] Не случайно в отечественных школах в 1990-е гг. «Начальную военную подготовку» сменили на «Охрану безопасности жизнедеятельности» и сделали это отнюдь не только в рамках осуждения милитаризма. НВП со своим навыком метания гранат предполагает активные действия субъекта в экстремальной ситуации. ОБЖ учит в случае взрыва атомной бомбы ложиться головой к пеньку и охранять жизнь любой ценой.
.
Есть, конечно, различия при распределении позиций силы и слабости, активности и пассивности в российском правовом и политическом пространстве, по которому до сих пор блуждают призраки тоталитарных идей, и на Западе с его развитым гражданским обществом, где индивидам вменяется именно активная гражданская позиция. Там пострадавшие объединяются в организации, учреждают общественные движения и столь громко заявляют о себе, что проигнорировать их требования не представляется возможным. Однако рискнем предположить, что в обоих случаях у жертвы есть перспектива лишь встроиться в русло ressentiment [24] Согласно Ф. Ницше, ressentiment представляет собой движущую силу реактивной воли к власти, базируясь на мощнейших деструктивных аффектах злопамятности и нечистой совести.
( фр .) [25] Жертвы часто осознают это. Дж. Агамбен приводит сообщения выживших узников немецких концлагерей, которые всю свою жизнь после освобождения при отсутствии оснований для вины были терзаемы непереносимым стыдом за то, что они выжили. Это был не только стыд за то, что они живы вместо других (иногда более достойных других: «лучшие не вернулись!»), но и за то, что опыт выжившего в концлагере – это опыт унижений, полной утраты человеческого достоинства. Поэтому многие из них попытались наладить некий мир с собой, выбрав миссию свидетельствовать во имя возмездия о нацистских преступлениях. Свидетельствовать за себя и за погибших. Агамбен приводит слова Жана Амери: «Для таких, как я, ресентименты как экзистенциальная доминанта являются результатом долгого личного и исторического развития… Мои ресентименты существуют для того, чтобы преступление сделалось моральной реальностью в глазах самого преступника, чтобы поставить его перед лицом истинности его злодеяния» [3, с. 107]. Современные жертвы террора собирают сами себя после катастрофического опыта благодаря аналогичной мотивации.
. И пусть даже западная модель в отличие от российской предполагает публичную демонстрацию чуда вновь обретенной общими усилиями субъективности, мораль в пределе одна и та же: предоставь правовому государству и обществу заботиться о тебе или в случае чего выдать за тебя компенсацию.
Вообще денежные выплаты семьям жертв и пострадавших – отдельная скользкая тема, позволяющая затронуть вопрос о теневой стороне принципа ценности человеческой жизни. Ценность – коварное понятие, что хорошо понимал Ницше. В логике ценности, с одной стороны, мы утверждаем, что человеческая жизнь – цель, а не средство, с другой же стороны, ценность – это то, что может быть оценено, высчитано и пересчитано, то, что в этом смысле не абсолютно и вполне может подлежать девальвации. Если исходить из того, что каждая жизнь уникальна и потеря ее невосполнима, на чем и настаивает послевоенный гуманизм, практика денежных компенсаций может показаться неуместной – мы вступаем в сумеречную зону этически сомнительных калькуляций. Однако материальная компенсация, подобно архаической вире, не может не быть принята, как не может не быть выплачена. Правда, современная компенсация производится в логике простого эквивалентного обмена (в отличие от пресловутой ирландской «цены чести», символически зависевшей от статуса рода, к которому принадлежало лицо, понесшее ущерб), так что СМИ нас держат в курсе того, как именно нынче котируется жизнь. В древности выкуп платила виновная сторона, сейчас это делает государство, беря на себя ответственность за происходящее с гражданами и компенсируя свою вину за то, что была допущена чрезвычайная ситуация. Однако такая трогательная забота представляет собой специфические траты власти, подтверждающие ее и, по сути, увеличивающие ее «капиталы». Ведь сегодня жизнь расценивается как ключевой ресурс – в этом и заключается смысл биополитической парадигмы власти (биополитику как тотальное властное инвестирование всех жизненных процессов, как известно, рассматривал М. Фуко [26] Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб., 2010.
). Тотальный контроль за жизнью предполагает, в конечном счете, что без ведома и дозволения власти никто не может безнаказанно ускользнуть в смерть сам или отправить на тот свет другого.
В итоге, отталкиваясь от современного публичного дискурса о жертвах, мы, возможно, сталкиваемся с провокативными и внушающими беспокойство подозрениями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: