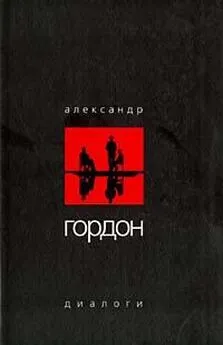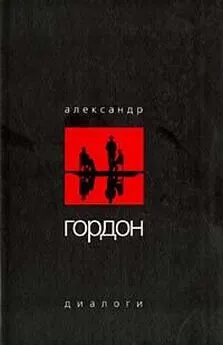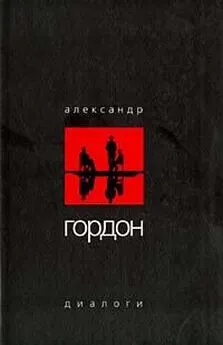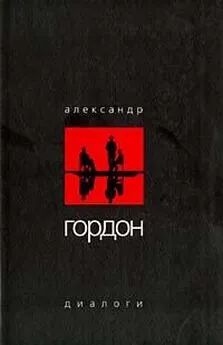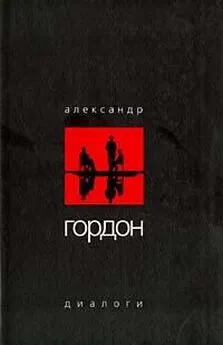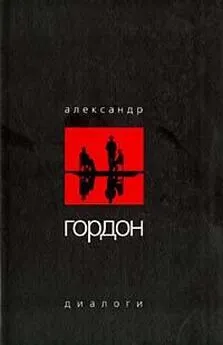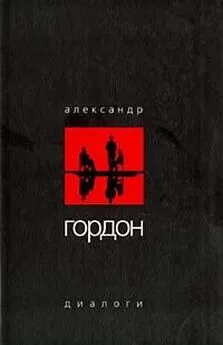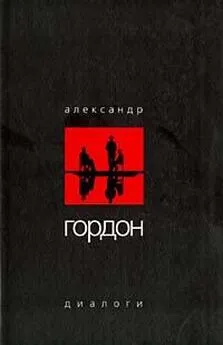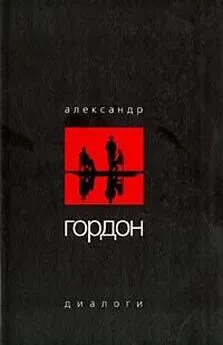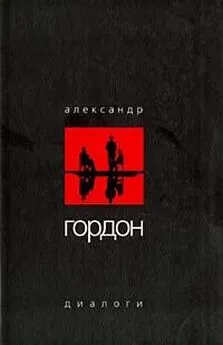Александр Гордон - Диалоги (май 2003 г.)
- Название:Диалоги (май 2003 г.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гордон - Диалоги (май 2003 г.) краткое содержание
Педаль газа выжата до упора. Человечество мчит по вечным коварным и непредсказуемым дорогам, отвечая по пути на иные вопросы, но неизменно оставляя без ответа вопрос: куда? Открытия, теории, гипотезы, цели учения, увеличивая объёмы наших знаний, ещё больше увеличивают наше незнание. При всём при этом остаются и звёздное небо над нами, и нравственный закон внутри нас. Последний, правда, временами больше выглядит как нравственная беспредельщина.
11 глав книги – это стенограммы ночных передач-диалогов телевизионной программы «Гордон». Темы этих передач – иногда ответы, но чаще попытки ответов на проблемы, загадки, вопросы, которые то и дело волны современной науки и современной цивилизации выбрасывают на берега нашего беспокойного сознания.
Майские темы:
Регресс в эволюции многоклеточных
Художественная антропология
Сталин
Космос будущего
РНК-мир
Асимметрия и возникновение жизни
Живая и неживая материя
Возникновение биологической информации
Виртуальное картографирование
Великое молчание Вселенной
Модели эффекта Харста
Диалоги (май 2003 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А.Г.Вот на этой штампик есть…
Б.И.Я так пониманию, что это – книга, которая, видимо, исчезла, поскольку остальные книги разбросали по другим библиотекам, публичным, главным образом, и детским даже. И вот, как я понимаю, эта книга одна из тех, которые проглядели, и она ушла в другую библиотеку, а мне её подарили.
А.Г.Всё-таки, от библиотеки Сталина к предмету ваших исследований. Что явилось предметом, почему?
Б.И.Я должен сказать, что, во-первых, как всегда, эти проблемы истока очень сложны, и даже когда занимаешься каким-то сюжетом. У меня такое впечатление, что я всю жизнь думал и знал, что я буду заниматься именно Сталиным и его биографией и его личностью, и самое главное, его душевным, и психологическим, и интеллектуальным состоянием. Я не знаю, откуда у меня такое убеждение, вот почему-то так мне казалось. И действительно так, я даже посмотрел некоторые свои старые записи, я их очень редко делаю, но иногда бывает, и где-то уже лет в 30 я ставил себе такую цель.
А.Г.Судьба…
Б.И.Наверное, я тоже к этому. Но у меня не было никаких оснований для такой цели, не было никаких для этого даже возможностей, потому что представить себе в 60–70-е годы (я окончил школу где-то в 60-х годах, институт – в 70-х) было невозможно, что можно будет когда-то подойти к архиву Сталина, заниматься им как историку в полном смысле слова. И когда это в конце концов произошло, то для меня это было, я считаю, жизненной удачей. Это то, что мне нужно было, просто я, видимо, так внутренне к этому шёл.
Причём, я должен заметить, что здесь ещё как бы двойная линия. С одной стороны, здесь исторический герой, человек, который достиг необыкновенных высот, как бы мы это не оценивали – это государственный деятель, государственный лидер ХХ века. Сталин, это, конечно, лицо ХХ века; во многом, не только он, конечно. Это Гитлер, это Рузвельт, это Черчилль, это люди, которые делали эпоху, и никуда от этого не денешься. А с другой стороны, так получилось, что мои именно профессиональные интересы были связаны с архивом, я историк, архивист по образованию, и я как раз в начале перестройки был организатором небольшой организации – «Народного архива», целью которой было собирать документы обычных людей, самых рядовых, самых, так сказать, незначительных, если говорить с точки зрения социальной структуры. И вот откровенно могу сказать, что здесь как раз работали представления на перепадах – с одной стороны, исторический герой высшего, что называется, полёта, высшего масштаба, как бы мы к этому не относились; а в то же время, человек, который может быть обычным бомжом, а может быть работягой, инженером, рабочим и так далее. И вот в этом ключе, в этих полюсах, мне страшно интересно работать, я здесь и продолжаю работать.
Но, Сталин, конечно, стоит особо в этом ряду. Однако я хочу сказать, что здесь меня интересует человек как таковой. И я думаю, что вообще историка должен интересовать в первую очередь человек как таковой – какой бы он ни был. Потому что, в общем-то, профессия историка, с моей точки зрения, эта профессия сродни в какой-то степени с профессией человека, который занимается, ну, скажем, воскрешением. Я не побоюсь даже этого слова, потому что, в общем и целом, после того как человек биологически умирает, от него остаются какие-то незначительные остатки, от разных людей по-разному: от одного остаётся архив, предположим, а от другого остаётся две-три бумажки, дневник какой-нибудь, пара писем, или десяток писем, фотографии, к тому же неизвестно какие.
Это может раствориться всё, исчезнуть и больше люди никогда об этом не вспомнят, не узнают. И когда он на свете жил, и что он думал, и какие у него были чувства и так далее. Но стоит историку, любому историку подойти к этим документам, заинтересоваться, и начать лепить из этих остатков что-то заново, воссоздавать по существу образ… Я хочу сказать, что историк лепит исторический образ, воссоздаёт его из небытия – в другом качестве, конечно, не в том физиологическом, биологическом смысле, в котором он существовал, в другом качестве. Он снова включает его в наше сознание, он снова включает его в наш круг интересов и как бы снова его воскрешает.
В этом общем контексте, связанном с воскрешением, историческим включением тех, кто когда-то жил до нас, я и рассматриваю своего героя Сталина в том числе.
А.Г.Но, видите ли, если бы вы занимались эпохой Грозного или фигурой Грозного, или даже эпохой Петра или фигурой Петра, то всё-таки достаточно много времени прошло. Здесь нет – кроме самого идеологизированного случая – отношения к этому герою, кроме того, что вы можете вдруг раскопать и подать. То есть это историческая личность, которая обладает набором черт и характеров, но почти мифического свойства. Иван Грозный никак на мою жизнь не повлиял, вы же занимаетесь Сталиным в то время, когда живы ещё многие люди, которые помнят его и знают и которые переживали ту историю, которую он творил. Вот как здесь быть с этим отстранением? Вы говорите – воскрешать, а ведь сейчас люди слушают, и говорят: воскрешать Сталина, это же не одно и то же, что вот, скажем, ну, не знаю, Владимира Красно Солнышко.
Б.И.Да. Но только воскрешение в каком смысле? Конечно, это воскрешение, я ещё раз подчёркиваю, не в подлинном, не в физиологическом, не в христианском, и вообще не в религиозном смысле, это воскрешение в научном смысле. Воскрешение как воссоздание образа по определённым правам, по определённым критериям.
Но дело даже не в этом. Вот вы сказали, что вроде бы Иван Грозный – мифологизирован, а вот Сталин совсем ещё свежий и поэтому трудно здесь вводить элементы, связанные с наукой. Дело в том, что чем дальше находится от нас этот самый образ и чем больше с ним работает историк и вообще работает с ним общественное сознание и человеческое сознание, тем он всё более и более становится для нас реальным. Не то чтобы, как вы говорите, мифологизированным, а наоборот, он становится более историчным. Да, элементы мифологизированности есть, но дело в том, что Сталин более мифологизирован. В настоящее время фигура Сталина более мифологизирована, чем фигура Ивана Грозного, вот это удивительная вещь.
Вы правильно говорите, что он вроде бы совершенно рядом – а фигура Горбачёва, а фигура Ельцина, даже теперешнего президента? Чем ближе к нам, тем больше мифов, тем меньше, так сказать, реальности. Потому что для нас, хотя вроде бы они рядом, они наши соседи, они наши современники, но это современники, которые как раз представляют собой больше символ, чем какую-то историческую реальность, чем человека. И наоборот, чем они от нас находятся дальше, тем мы о них знаем больше – это закон истории. Потому что ведь даже сами эти самые участники о себе знают меньше, чем мы знаем уже о них, когда они умирают. Это парадокс, но это действительно так.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: