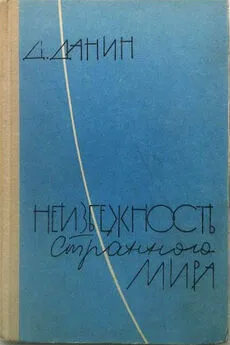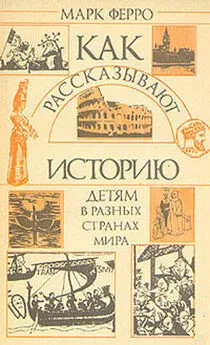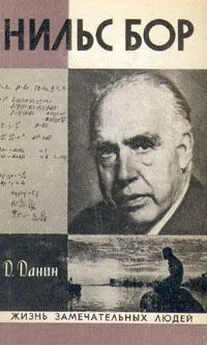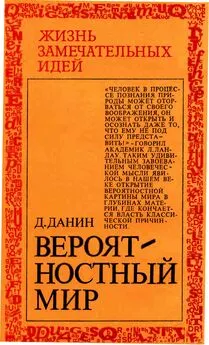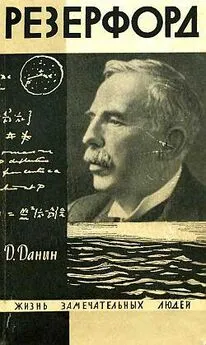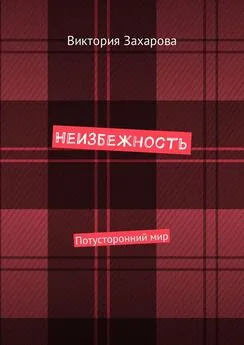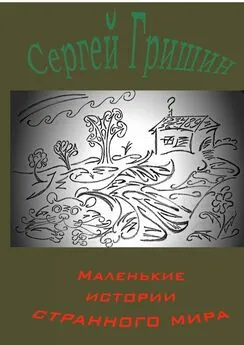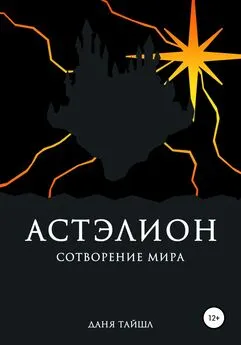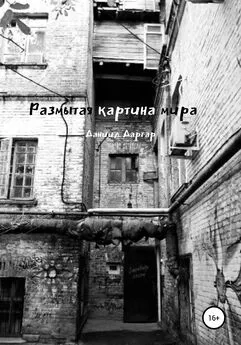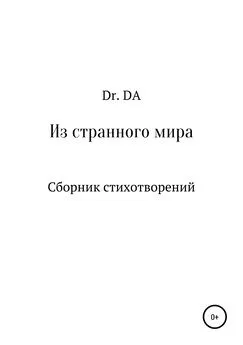Даниил Данин - Неизбежность странного мира
- Название:Неизбежность странного мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1962
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Данин - Неизбежность странного мира краткое содержание
Эта книга — нечто вроде заметок путешественника, побывавшего в удивительной стране элементарных частиц материи, где перед ним приоткрылся странный мир неожиданных идей и представлений физики нашего века. В своих путевых заметках автор рассказал о том, что увидел. Рассказал для тех, кому еще не случалось приходить тем же маршрутом.
Содержит иллюстрации.
Неизбежность странного мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По сцене расхаживало мыслящее существо, впряженное в подвижную конструкцию легкого микрофона, как хомут накинутого на шею. Оно, это мыслящее существо, переходило от кафедры к меловой доске, волоча за собою, как брошенный повод, нескончаемый радиошнур. И зал, в тесной упряжке наушников, тянул вместе с ним тяжело перегруженный воз кропотливейшего познания микрореальности. А когда. докладчик приостанавливался и устало опирался на лекторскую указку, в воображении возникал образ безыменного странника с походным посохом в руках — вечного странника, которому еще идти и идти.
(Конечно, эти слова — странник, посох, воз — не из обихода нашего благоустроенного века, но дороги исследователей благоустроенными не будут никогда, это пути в незнаемое.)
О чем говорили физики, о чем они спорили? В конце концов все сводилось к обмену сведениями и догадками о том, что действительно имеет место , и о том, чего не может быть в микромире. Они спорили друг с другом, как и соглашались, на интернациональном языке экспериментов и математики. И в темноте, когда начиналась демонстрация микрофотографий, диаграмм и схем, когда не видно было лиц и только световой конус эпидиаскопа стягивал в одну точку нити всеобщего внимания, с удвоенной силой возникало ощущение, что все эти люди связаны какой-то единой присягой верности, равно обязательной для всех. Верности чему? Ответ был наготове: истине физического знания.
Этому не противоречит то, что у каждого научного открытия, большого или маленького, всегда есть своя родословная: дата и место рождения, имена и фамилии родителей. Такая родословная, конечно, отражает характер эпохи и страны, где успех был достигнут. Даже биография и темперамент ученого отражаются в этой родословной. Но только в родословной — только в истории открытия, а не в его физическом содержании. Иначе оно не имело бы никакой цены.
Конечно, для жизни человеческого общества, для будущего землян часто далеко не безразлично, особенно в наши дни, где, кем и для чего добываются физические истины. «А кто воспользуется открытием, которое я сделал?» — Фредерик Жолио-Кюри недаром спрашивал об этом еще тогда, когда не был ни коммунистом, ни руководителем движения сторонников мира. Не этот ли вопрос привел его к коммунизму? Даже история современной физики, не говоря уж об истории социальной, не забудет, что Филипп Ленард был гитлеровским негодяем, а Эдвард Теллер — энтузиастом водородной бомбы… Вот почему было сказано выше, что «географические» различия между физиками потеряли всякое значение только на минуту. Только на минуту! Правда, нам эта минута сейчас очень важна.
Физики, съехавшиеся в Киев со всех концов земли, обменивались адресами и взаимными приглашениями в гости. Но все они молча признавали, что их подопечный — мир элементарных частиц — географического адреса не имеет. Молча признавали они, что всюду и везде он управляем одними и теми же законами природы, а не человеческими установлениями. Об этом-то и поведала сразу наша произвольно допущенная минута.
Не могло быть даже тени сомнения, что это их общая нерушимая убежденность. Как могли бы наши физики из Дубны и американские физики из Беркли обмениваться научной информацией, если бы они не верили, что в лабораториях Дубны и лабораториях Беркли протоны ведут себя совершенно одинаково и представляют собою одну и ту же физическую реальность? Чем могли бы взаимно обогатиться теоретики Японии и экспериментаторы Италии, если бы в них не жила молчаливая уверенность, что микромир существует сам по себе и в своих закономерностях не зависит от волеизъявлений микадо или происков Ватикана? И, наконец, зачем бы ехал в Киев Гейзенберг, если бы он внутренне не был вполне убежден в объективной реальности природы? Как он мог бы надеяться, что будет понят другими и сам поймет других? Зачем бы он тогда вообще занимался физикой?
Вот что одолевало меня, стороннего наблюдателя, в Киеве: сомнения в искренности и «додуманности» физического идеализма… А тут еще киевская жара! Днем и ночью она с грубой прямолинейностью доказывала всем и каждому, что природа существует абсолютно независимо от сознания людей и делает свое потогонное дело, совершенно не считаясь с их желаниями и не спрашивая их согласия. При температуре в 36 градусов ночью ни один здоровый человек не может долго оставаться субъективным идеалистом, а человек, глотающий таблетки, тем более! (Неспроста же в древней Греции не было сколько-нибудь серьезной школы субъективного идеализма. Там средняя годовая температура для этого, право же, слишком высока.)
Был день, когда Гейзенберг тоже впрягся в микрофон и тоже волочил по сцене нескончаемый шнур. Все-таки надев ради торжественности случая мучительно материальный галстук, он рассказывал о своих новых физических построениях. Потом он вел заключительное заседание. И, сидя в зале рядом с профессором X., я сказал ему шепотом:
— Знаете, почему философские разногласия не мешают физикам заниматься делом? Потому что все вы — явные или тайные материалисты. Даже тогда материалисты, когда думаете, что это не так.
И еще мне пришло на ум, что этот безотчетный профессиональный материализм исследователей природы — то, что Энгельс и Ленин называли стихийным материализмом естествоиспытателей, — рано или поздно неизбежно должен в нашем веке превращаться в материализм осознанный и последовательный. Я и это сказал профессору X. Он ответил мне шепотом:
— Вы ломитесь в открытые двери. А что касается старика Гейзенберга, то с ним это уже, кажется, случилось…
— Когда? — спросил я от неожиданности громче, чем это было допустимо, и «старик» Гейзенберг с председательского места на сцене вопросительно посмотрел в зал.
— Года четыре назад, — услышал я шепот X. — А может, еще раньше. Наверху в киоске есть сборник к семидесятилетию Бора. Перелистайте — сами увидите…
И через час, стоя у окна в фойе, я читал фразу, которая за подписью Вернера Гейзенберга звучала бы некогда так же неправдоподобно, как в устах Бора признание физической законности понятия «детерминизм». Вот эта фраза: «…Физик должен постулировать в своей науке, что он изучает мир, который не он изготовил и который существовал бы без значительных перемен, если бы этого физика вообще не было».
«Вообще не было», — звучало в моих ушах.
Пожелай я выразить сверххудожественно свое впечатление от этого открытия, я мог бы сказать, что трепещущая на ветру страница с фразой Гейзенберга показалась мне белым флагом над былой копенгагенской крепостью.
Вот как много воды утекло со времен знаменитого Сольвеевского конгресса 1927 года!
И если бы де Бройль в своей памятной лекции спросил: «Останется ли индетерминистическим толкование квантовой физики?» — он, как вы видите, получил бы желанный ответ: «Нет, не останется!» И что самое неожиданное, его заверили бы в этом былые вожди индетерминизма — Бор и Гейзенберг. Заверения надежней ему и искать не надо было бы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: