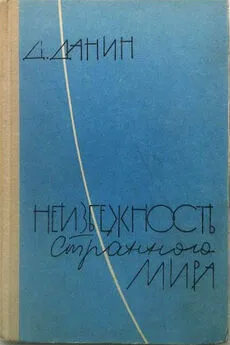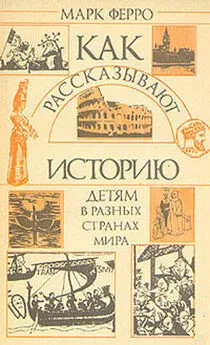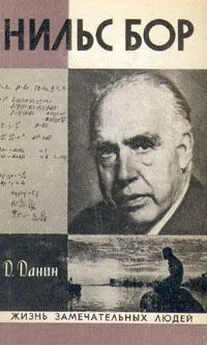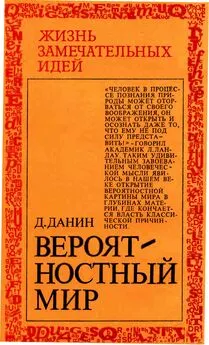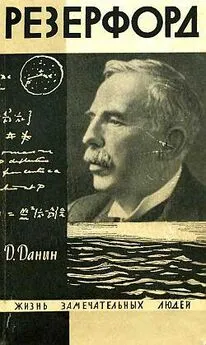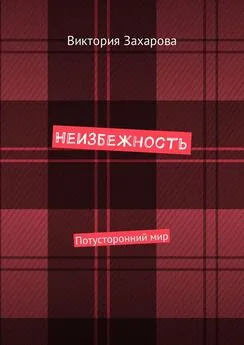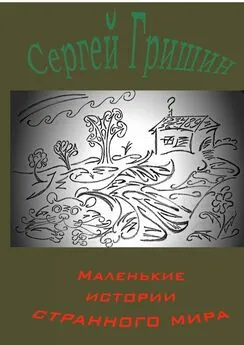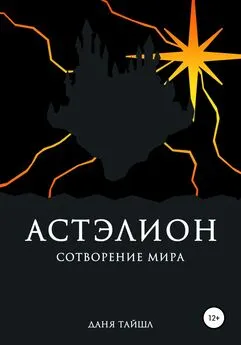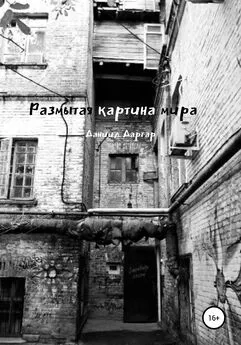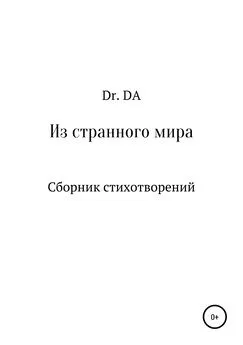Даниил Данин - Неизбежность странного мира
- Название:Неизбежность странного мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1962
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Данин - Неизбежность странного мира краткое содержание
Эта книга — нечто вроде заметок путешественника, побывавшего в удивительной стране элементарных частиц материи, где перед ним приоткрылся странный мир неожиданных идей и представлений физики нашего века. В своих путевых заметках автор рассказал о том, что увидел. Рассказал для тех, кому еще не случалось приходить тем же маршрутом.
Содержит иллюстрации.
Неизбежность странного мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тут напрашиваются очевидные сравнения: так, — наверное, чувствовали себя мореплаватели в океане, когда появление птичьих стай намекало им — где-то впереди лежит, быть может, близкий незнаемый берег; такие чувства, наверное испытывали геологи, когда скопления красных кристалликов пиропа на дне старательского лотка вселяли в них веру — где-то неподалеку лежит, быть может, алмазная трубка. Только для верности масштаба надо еще представить себе, что «незнаемый берег» — новый материк, а «алмазная трубка» — новый Трансвааль… Как это пишется в таких случаях: «и вот корабли развернули все паруса», или «теперь геологи шли не останавливаясь». Но, думая о физиках на Арагаце, лучше вспомнить слова Резерфорда: «Гейгер работал, как раб».
Так работали теперь на Арагаце.
Так стал он горой очарований.
В 1946 году впервые прозвучало на берегу Кара-геля новое слово во множественном числе — варитроны . В единственном оно и не могло бы возникнуть, потому что призвано было отразить разнообразие — многовариантность — масс неустойчивых неизвестных частиц, упрямо дававших горбики между мезонным и протонным пиками. Физики еще не могли «узнать в лицо» каждую из новых возможных частиц, но тогдашние измерения на масспектрометре вселили в них уверенность, что они имеют дело с прежде неведомыми обитателями микромира.
Сколько же таких неведомых обитателей есть в запасе у природы? Уже сама мысль, что они есть , что нет зияющего провала между мезонами и протонами, сама эта мысль имела громадное этапное значение для познания «первооснов». Но сколько их, еще неизвестных частиц?
Был соблазн рассматривать каждый холмик на спектральной кривой как верный признак существования частицы с соответствующей массой. Для этого только надо было быть совершенно уверенным, что ни в свойствах измеряющей установки, ни в свойствах приходящих частиц нет ничего, способного создавать обманные холмики — своеобразный мираж.
…Прерывая воображаемый рассказ старожила, хочется несколько слов сказать от себя.
В те годы мне не случилось бывать на Арагаце, и я еще не был знаком с Артемием Исааковичем Алиханяном, возглавлявшим лабораторию на горе. И не знаю, что переживал он тогда вместе со своими сотрудниками. Кажется, ничего не могло быть проще, чем расспросить об этом Алиханяна много лет спустя после отшумевшей бури. Однако я на это так ни разу и не решился. Все останавливала мысль: не покажется ли такое любопытство ничем не оправданным «влезанием в душу»? Но почему-то мне представляется, что в те недели и месяцы счастливого переживания неслыханной научной удачи бывали у Алиханяна часы внезапных сомнений. Внезапных и безотчетных: другому их не объяснить и разумными доводами от них не избавиться. (Вдруг мрачнеет человек, ходит притихший и неразговорчивый, потом взрывается от чужого неосторожного слова, и никто не понимает, что случилось, «какая муха его укусила». А ничего не случилось! Просто человек думает.) Все мне почему-то представляется во тьме алиханяновской комнаты на Арагаце красный тревожный огонек несчетной ночной папиросы…
Поначалу на спектральной кривой прорисовывалось столько неожиданных холмиков, что в пору было подумать, будто в мире элементарных частиц существует просто непрерывный спектр масс — возможны чуть ли не любые массы. И один выдающийся физик даже высказывал такую мысль. Хотя она была мимолетна, о ней стоит здесь вспомнить, чтобы ясно стало, какой громкий отзвук породили в науке события на Арагаце. В дискуссиях сталкивались страсти сторонников и противников варитронов. О новых частицах (в одном варианте их было 15, в другом — около 20) восторженно рассказывали популярные очерки, их открытие многозначительно трактовали поспешные философские статьи. Конечно, авторы и тех и других были искренни и ни в чем не повинны.
А на Арагаце продолжали работать…
Экспериментаторы проверяли и перепроверяли показания своей установки. Они накапливали, как принято говорить, громадную статистику. «В результате трехлетней работы, — писали в 1949 году два сотрудника Арагацкой лаборатории, — удалось зафиксировать и обработать траектории около 500 000 частиц».
Полмиллиона кинокадров со световым пунктиром точек на неоновом табло… Полмиллиона наблюдений и расчетов… Это были неотступные поиски «правды эксперимента».
Их итог не оставался неизменным.
Физики совершенствовали свой метод получения спектра масс — свою оригинальную, еще нигде и никем не испытанную установку. Тогда в ней не было туманной камеры, и экспериментаторы не могли непосредственно наблюдать след прилетевшей частицы, характер ее остановки, зрелище ее распада, когда распад имел место. Туманную камеру заменял в ту пору «слоеный пирог» из пластин свинца и сплошных рядов гейгеровских счетчиков. Счетчики сигнализировали, в каком слое застряла частица, и по этим сигналам физики судили, сколько пластин ей удалось пронизать — каково было ее энергетическое богатство. Экспериментаторы непрерывно улучшали структуру «слоеного пирога», чтобы освободиться от миражей, которые мог порождать прибор, И по мере возрастания точности измерений менялись очертания холмистой долины между пиком мезонов и пиком протонов на спектральной кривой.
Иные холмики сгладились. Иные, близко соседствовавшие друг с другом, слились в один. Варитронное изобилие разных масс в самом деле оказалось миражем, и физики на Арагаце сами развеяли его.
Но все-таки долина не стала ровной! После огромного экспериментального труда, после удаления из спектра масс всего, что оптики-спектроскописты называют «спектральными духами», физики увидели три неустранимых холма — признаки вероятного существования трех типов частиц тяжелее мезона и легче протона.
Арагацкие измерения дали для этих частиц значения масс. — около 300, около 500 и около 1 000 (если массу электрона принять за единицу). Таков был экспериментальный итог варитронной эпопеи, полученный к началу 50-х годов.
А тем временем в науке об элементарных частицах произошли события исторической важности. В них нашли свое отражение и события на Арагаце. Но и то, что случилось, в свой черед, бросило новый свет на эпопею варитронов.
Надо продолжить прерванное — рассказ о мезонах Юкавы и мезонах Андерсона.
В течение целого десятилетия (1937–1947) физики всего мира были вполне уверены, что американский экспериментатор открыл частицы, предсказанные японским теоретиком. Совпадение свойств было удивительным: и у тех и у других масса — около 200, а время жизни — миллионные доли секунды. Однако одно обстоятельство все же беспокоило физиков.
Откуда бралась у андерсоновских мезонов их громадная проникающая способность? Ведь если они действительно кванты ядерного поля, то им надлежало бы активно взаимодействовать с атомными ядрами и путь через вещество не был бы для них беззаботной прогулкой. Ядерная активность — прирожденное свойство, главная особенность ядерных квантов. Ради этого и «придумал» Юкава свои мезоны. И если Андерсон именно их и открыл, то почему же частицы американца пронизывают даже толщу плотного свинца с таким независимым видом, точно у них нет никаких родственных связей со встречными ядрами?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: