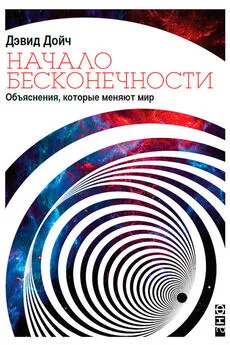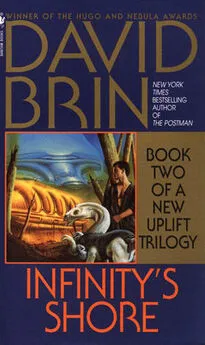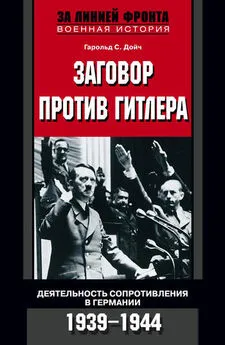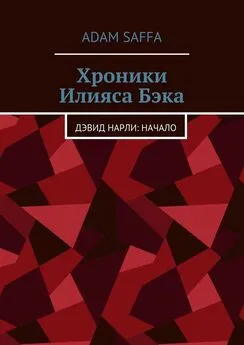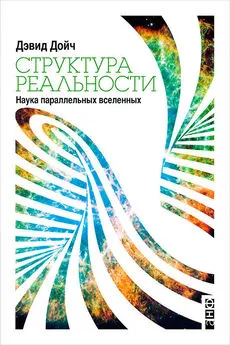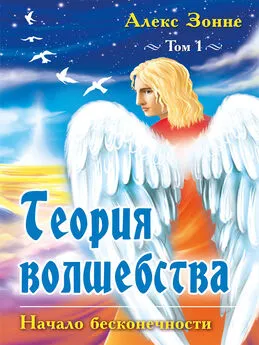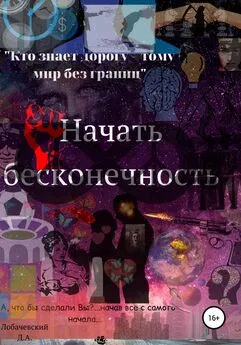Дэвид Дойч - Начало бесконечности
- Название:Начало бесконечности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Альпина»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-3541-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Дойч - Начало бесконечности краткое содержание
Начало бесконечности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иногда «бессмертие» (в этом смысле) даже рассматривается как нечто нежелательное. Например, есть аргументы, ссылающиеся на перенаселённость; но это всё примеры мальтузианского пророческого заблуждения: то, что нужно каждому дополнительному человеку, чтобы выжить при современных стандартах жизни, легко просчитать; какие знания этот человек привнесёт в решение возникающих проблем, узнать невозможно. Существуют также аргументы, говорящие о деградации общества, вызванной укреплением на влиятельных постах пожилых людей; но традиции критики, существующие в нашем обществе, уже хорошо приспособлены для решения такого типа проблем. Даже сегодня в западных странах считается обычным делом отправлять в отставку немолодых, но влиятельных политиков и руководителей корпораций, даже если они не жалуются на здоровье.
Приведу одну из традиционных оптимистичных историй. Король-тиран приговорил её героя-узника к смерти, но тот сумел убедить правителя отложить казнь в обмен на обещание за год научить королевского коня говорить. В ту же ночь сосед-заключённый спрашивает нашего героя, зачем ему всё это. А тот отвечает: «За год много чего может случиться. Вдруг конь подохнет. Или король умрёт. Или я сам. А может, конь возьмёт и заговорит!» [58]Герой рассказа понимает, что хотя его беды непосредственно связаны с тюремными решётками, королём и его конём, то зло, которое ему угрожает, в конечном счёте обусловлено недостатком знаний. И поэтому он смотрит на жизнь с оптимизмом. Он знает, что если прогрессу суждено случиться, то о некоторых из возможностей и открытий нельзя узнать заранее. Прогресса вообще не может быть, пока не найдётся тот, кто будет готов к встрече с этими непостижимыми возможностями и открыт им. Научить коня говорить нашему смельчаку-заключённому, может, и не удастся. Но ему может прийти в голову что-нибудь ещё. Возможно, он уговорит короля отменить нарушенный закон или научится какому-нибудь убедительному фокусу и сделает так, что все будут думать, что конь говорит; он может сбежать или придумать какое-нибудь выполнимое задание, которое понравится королю ещё больше, чем говорящий конь. И этот список можно продолжать бесконечно. Даже если такое маловероятно, осуществления уже одной из подобных возможностей будет достаточно для решения проблемы. Но если заключённому суждено освободиться благодаря какой-то новой идее, сегодня он о ней, возможно, и не подозревает и поэтому не может позволить, чтобы его планы зависели от предположения о том, что она никогда не возникнет.
Оптимизм заключает в себе все другие условия, необходимые для развития знаний и для сохранения создающих знания цивилизаций, а значит, и условий для начала бесконечности. Наш долг, как говорил Поппер, оставаться оптимистами в целом, а в особенности в отношении цивилизации. Да, можно полагать, что спасти цивилизацию будет нелегко. Но это не значит, что вероятность решить соответствующие проблемы мала. Когда о математической задаче говорят, что её трудно решить, это не значит, что её вряд ли решат. Самые разные факторы определяют, возьмутся ли за неё математики вообще, и если да, то насколько активно. Если простая задача не считается интересной или полезной, её могут отложить на неопределённое время, а вот решать трудные задачи учёные пытаются постоянно.
Как правило, трудность проблемы — это как раз один из тех самых факторов, которые заставляют её решать. То, что президент Джон Кеннеди сказал в 1962 году, — знаменитый пример оптимистического подхода к неизвестному: «Мы решили отправиться на Луну. Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и сделать многое другое, не потому что это легко, а потому что это трудно» [59]. Кеннеди не считал, что лунный проект из-за его трудности вряд ли окажется успешным. Напротив, он верил в успех. Называя задачу трудной, он имел в виду, что при её решении придётся иметь дело с неизвестным. И в своём обращении он ссылался на интуитивно понятный факт: хотя при выборе средств достижения цели такая трудность всегда является негативным фактором, при выборе самой цели она может сыграть и позитивную роль, поскольку нам нравится участвовать в проектах, в которых будет создаваться новое знание. И оптимист готов к появлению знаний, определяющих прогресс, включая их непредсказуемые последствия.
Кеннеди отметил, что для лунного проекта потребуется ракета-носитель, «с корпусом из уникальных металлических сплавов, часть из которых ещё не существует в природе, способная выдерживать невероятную температуру и нагрузки, работающая точнее, чем все часы мира, и несущая оборудование, необходимое для управления полётом, проведения исследований, обеспечения связи, питания и жизнедеятельности астронавтов» [60]. Всё это были известные проблемы, решение которых требовало ещё неизвестных знаний. Слова о «небывалой миссии к неисследованному небесному телу» [61]относились к неизвестным проблемам, из-за которых вероятность успеха и результаты невозможно предсказать заранее. Но ничто не помешало разумно мыслящим людям сформировать ожидание, что этот полёт будет успешным. Это ожидание не было суждением о вероятности: на ранних стадиях проекта никто не мог ничего предсказать, потому что всё зависело от ещё не найденных решений ещё неизвестных задач. Когда людей убеждали работать над проектом, — а также голосовать за него и т. п., — их убеждали, что ограничивать наше существование одной планетой — это плохо, а исследовать Вселенную — хорошо; что гравитационное поле Земли — это не преграда, а просто проблема, и чтобы справиться с ней и со всеми другими проблемами, возникающими в ходе проекта, нужно просто знать, как это сделать, и что, судя по природе этих проблем, настал подходящий момент, чтобы ими заняться. Вероятности и пророчества были не для этих суждений.
На протяжении всей истории пессимизм был свойственен практически каждому обществу. Он принимал форму принципа предосторожности и всевозможных разновидностей жажды пророчеств, политических философий, основанных на вопросе «Кто должен править?» и неверии в силу творческих способностей, а также на ошибочном толковании проблем как непреодолимых преград. Но всегда находилось несколько человек, которые видели в препятствия проблемы, проблемы, которые можно решить. И поэтому пусть и очень редко, но встречаются места и моменты времени, когда пессимизму ненадолго наступал конец. Насколько мне известно, ни один историк не исследовал историю оптимизма, но, я полагаю, что когда бы он ни появлялся в цивилизации, это было мини-Просвещение: традиция критики приводила к расцвету многих форм человеческой деятельности, таких как искусство, литература, философия, наука, технология и институты открытого общества. Конец пессимизма — это потенциально начало бесконечности. Однако я также полагаю, что в каждом случае — с одним-единственным (пока) потрясающим исключением в виде нашего собственного Просвещения — этот процесс вскоре прекращался, и власть пессимизма вновь восстанавливалась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: