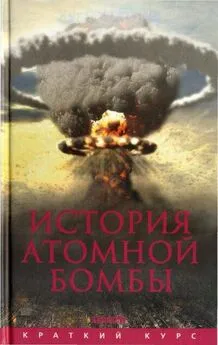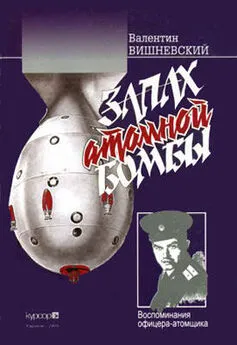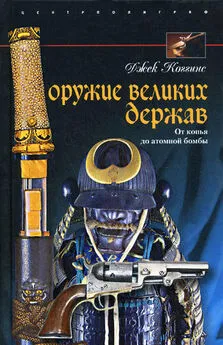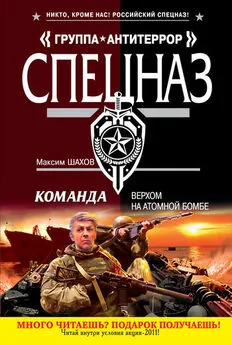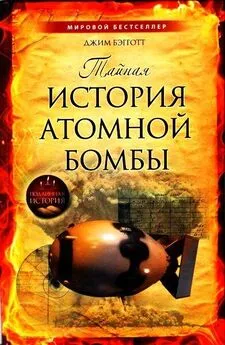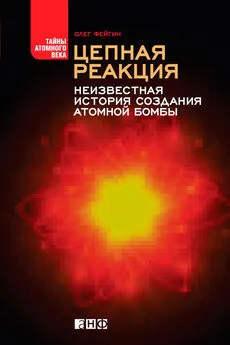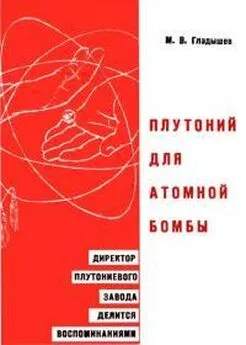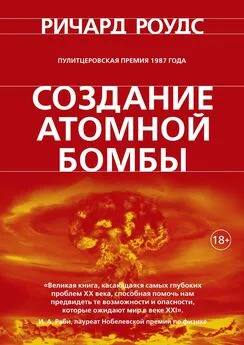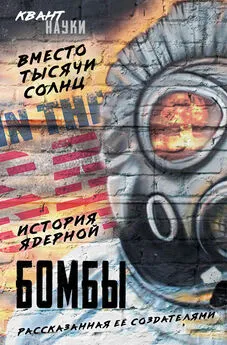Хуберт Мания - История атомной бомбы
- Название:История атомной бомбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2012
- ISBN:978-5-7516-1005-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хуберт Мания - История атомной бомбы краткое содержание
Эта занимательная книга рассказывает о новой эре в истории человечества — от открытия урана до первого эксперимента с атомной бомбой. Когда возникла идея, что энергию можно добыть из ядра атома, никто и представить себе не мог, какие трудности придется преодолевать лучшим умам человечества, и какие силы природы извергнутся из комочка самоподогревающегося вещества размером с апельсин, если сжать его до критической массы.
История атомной бомбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Роберт Оппенгеймер уже владеет латынью, греческим, французским, испанским и немецким. Теперь он изучает итальянский, чтобы читать Данте в подлиннике, причем все это не в ущерб его работе в институте. Его постоянно подстегивает честолюбие, он должен блистать во всех областях. Этот докторант Борна не ограничивает свои разговоры в кафе и за кружкой пива скоростями электронов, ядерными колебаниями и аномалиями спектральных линий. Он чувствует себя в хорошей форме лишь тогда, когда во время размашистых прогулок по центру Гёттингена может прочитать своим запыхавшимся спутникам лекцию о кругах ада, ярусах греха и наказаниях за содомию из дантевской «Божественной комедии». Или цитирует ошеломленным немцам по памяти целые строфы из Гёльдерлина — со своим американским акцентом. Или с особой психологической жестокостью шокирует слушателей мрачными намеками на взгляды Марселя Пруста. Или изображает архетипическую коллизию между матерью и сыном как неотвратимую дилемму человеческой души. Его ровесник, немецкий физик Вальтер Гейтлер сам видел, как Оппенгеймер, сидевший в кафе со знакомыми супружескими парами, внезапно полез под стол и принялся там лаять.
Любовь к дискуссиям у этого отъявленного сноба иной раз принимает неприличные размеры. Из чувства собственного превосходства он взял себе в привычку необоснованно резко критиковать своих сокурсников на семинарах и лекциях Борна. Стоит кому-то сделать у доски ошибку, он без спросу встает, берет кусок мела и поправляет отвечающего. Даже если никакой ошибки нет, этот мучитель Оппенгеймер наверняка знает лучший метод решения. В конце концов студенты написали письменный протест и пригрозили бойкотом мероприятий, если этот «вундеркинд» не уймется. У Борна не хватает решимости открыто приструнить любимого ученика. И тогда он приглашает его к себе в кабинет для разговора о диссертации, оставляет петицию студентов на видном месте и под каким-то предлогом выходит из комнаты. Вернувшись, он находит бледного, молчаливого Оппенгеймера, который отныне больше никогда не выступает в роли ментора.
Насколько красноречивым и многословным бывает Оппенгеймер, если речь заходит о литературе, философии или о его частной коллекции картин, настолько же лаконично и компактно он пишет свои работы по специальности. К концу его девятимесячного пребывания в Гёттингене у него опубликовано семь статей. Для их общей с Борном статьи Оппенгеймер отсылает пять страниц, что на вкус соавтора все же маловато. В статье речь идет о применении квантовой механики на молекулярном уровне — тема, вдохновленная подсказкой Гейзенберга. Макс Борн, обозначенный как первый автор, дополняет трактат, впоследствии ставший известным как «Приближение Борна — Оппенгеймера», собственными замечаниями и теоремой так, что из него получается тридцать страниц. Оппенгеймер втайне считает это декоративными излишествами и разжижением его, оппенгеймерского, концентрата. На разработку диссертации о фотоэлектрическом эффекте в водороде и в рентгеновских лучах у него уходит ровно три недели. На одиннадцатое мая 1927 года назначен экзамен на степень доктора, который он выдерживает с высшей оценкой. Один из экзаменаторов — свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк, сухо замечает: «Хорошо, что я вовремя вышел. А то он уже начал экзаменовать меня ».
В конце 1927 года Вернер Гейзенберг обустраивает себе скромную служебную квартиру в Институте теоретической физики Лейпцигского университета. Адрес — Линнештрассе 5, «на полдороге между кладбищем и психушкой». Наконец-то он принял профессуру, после того как его пытались заманить к себе Колумбийский университет в Нью-Йорке и Государственная высшая техническая школа в Цюрихе. Однако возможность работать в Германии была для него приоритетной. Первым же его «служебным актом» стал сквозняк: он распахивает настежь все двери и окна затхлых помещений института, покупает постельное белье и распоряжается основательно отремонтировать свое будущее жилище. Для полного счастья ему недостает фортепьяно и стола для настольного тенниса, но то и другое можно организовать.
Позади у него остался очень бурный год. На двух важных физических конгрессах — в итальянском Комо и в Брюсселе — верх одержала копенгагенская трактовка квантовой механики. Она зиждется на соотношении неопределённостей Гейзенберга и на принципе дополнительности Бора. Бор утверждает, что при всяком атомарном эксперименте следует рассматривать электрон одновременно и как частицу, и как волновую функцию. В процессе измерения экспериментатор сам делает выбор либо в пользу волны, либо в пользу частицы. При этом, по его мнению, «необходимое решение экспериментатора в пользу одного или другого представления вызывает нарушение, которое и приводит затем к неопределённостям». И они устанавливаются между двумя парами измеренных величин: местоположение—скорость и энергия—время. Ненаблюдаемый сам по себе электрон остается по этому принципу неопределенным.
Но тревожные последствия этой неопределенности механических величин в атомарном мире простираются глубже. Ведь ею серьезно поколеблен священный принцип причинно-следственной связи, который считается необходимым условием научного подхода. Тем самым «закон причинности становится некоторым образом недействительным», — делает вывод Гейзенберг. Если до сих пор можно было, зная настоящее, вычислить будущее — например, рассчитать следующее солнечное затмение, зная траектории движения Земли и Луны вокруг Солнца, — то теперь закон причинности разбивается о границу точности в квантовой механике. Ибо, если недостаточно точно знаешь начальные условия, то и будущие процессы атомарной системы уже непредсказуемы.
Наблюдающий физик неотвратимо вмешивается в атомарные события и изменяет их своими измерениями. Это революционное представление об активной роли наблюдателя и принципиальной невозможности безупречного измерения ставит с ног на голову прежнюю философию физики. С этим соглашаются, конечно, далеко не все исследователи. Противники копенгагенской школы настаивают на физике, которая может предсказать результат эксперимента — независимо от ученого, проводящего эксперимент. Оттого на шестидневном Сольвеевском конгрессе в Брюсселе в октябре 1927 года дело и выливается в дискуссионный марафон между копенгагенцами и Альбертом Эйнштейном. По коридорам отеля, в котором поселились участники конгресса, курсируют разные версии эйнштейновской мантры «Бог не играет в кости». Он просто не хочет признать, что на уровне атома можно исследовать лишь возможности и вероятности. Уже за завтраком он преподносит Бору и Гейзенбергу мысленный эксперимент, который однозначно должен довести соотношение неопределённостей до абсурда. В течение дня его доводы анализируются, и уже во время совместного ужина Бор может опровергнуть аргументы Эйнштейна. Гейзенберг вспоминает: «Тогда Эйнштейн становился несколько обеспокоенным, однако уже к следующему утру у него был готов новый мысленный эксперимент, сложнее предыдущего, и уж этот точно должен был опровергнуть соотношение неопределённостей. С этой попыткой, конечно, вечером было то же, что и с предыдущей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: