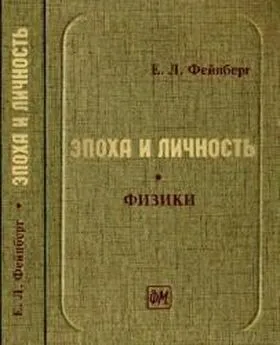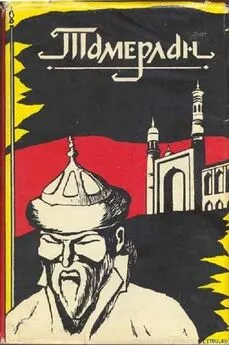Евгений Фейнберг - Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания
- Название:Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФИЗМАТЛИТ
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-94052-068-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Фейнберг - Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания краткое содержание
Книга представляет собой собрание очерков — воспоминаний о некоторых выдающихся отечественных физиках, с которыми автор был в большей или меньшей мере близок на протяжении десятилетий, а также воспоминания о Н. Боре и очерк о В. Гейзенберге. Почти все очерки уже публиковались, однако новое время, открывшиеся архивы дали возможность существенно дополнить их. Само собой получилось, что их объединяет проблема, давшая название сборнику.
Для широкого круга читателей, интересующихся жизнью ученых XX века с его чумой тоталитаризма.
Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можно сказать, что если Россия «была беременна революцией», то наша культура была «беременна большой наукой». В физике был такой исследователь, как А. А. Эйхенвальд, экспериментально доказавший эквивалентность конвекционного тока и тока проводимости (эффект Эйхенвальда), был Е. С. Федоров, классифицировавший кристаллографические группы симметрии, был А. А. Фридман (которого, однако, можно, скорее, считать математиком-механиком; лишь в 1922–1923 гг. он сделал выдающееся открытие в физике — нашел нестационарные решения в космологии Эйнштейна, доказав тем возможность расширяющейся вселенной). Недостатком, однако, оставалось отсутствие научных школ , за исключением единственной школы П. Н. Лебедева, вскоре распавшейся.
Почти все значительные физики предреволюционного поколения (кроме, пожалуй, только Н. А. Умова) по многу лет учились и в молодости работали за границей, почти все только в Германии, которая вплоть до гитлеровского разгрома науки была безусловным мировым лидером в естественных науках. Так, П. Н. Лебедев учился у Кундта, Кольрауша и Гельмгольца, А. Ф. Иоффе — у Рентгена, А. А. Эйхенвальд, Н. Д. Папалекси, Д. С. Рождественский, Н. Н. Андреев, Б. Б. Голицын кончали немецкие (или швейцарские) университеты, либо хоть несколько лет работали там по окончании российского университета. Почти все они, уже после революции, создали свои школы, организовали институты и т. д.
Не был исключением и Л. И. Мандельштам. Изгнанный из Новороссийского (Одесского) университета за участие в студенческом движении, он с 1899 г. учился, а затем работал у Брауна в Страсбурге, где стал профессором, своими работами приобрел мировое имя и лишь в 1914 г. вернулся на родину. На Игоря Евгеньевича он оказал огромное влияние. Именно под его руководством в возрасте 26 лет началась научная деятельность Тамма.
Игорь Евгеньевич был к ней уже вполне готов. В частности, на высоте была его математическая подготовка. Он доказал это, когда в 1922–1925 гг. были опубликованы три первые его работы.
Первая, краткая, совместная с Л. И. Мандельштамом, была напечатана позже других, за границей, но, по существу, из нее исходят две более обширные работы, опубликованные ранее, однако только на русском языке. Эти исследования по электродинамике анизотропных сред в теории относительности были интересны с общей, принципиальной, точки зрения. Однако мы и до сих пор не встречаемся в буквальном смысле с анизотропными телами, движущимися с релятивистскими скоростями. Не удивительно, что эти вопросы еще долго не рассматривались в литературе. Лишь через четверть века Яух и Ватсон, не зная о работах Мандельштама и Тамма, заинтересовались проблемой и, в частности, повторили некоторые их результаты.
Работы, б которых идет речь, Игорь Евгеньевич делал в основном уже в Москве, куда он переехал в 1922 г., как только после введения НЭПа обстановка стала понемногу нормализоваться. Но жил он крайне неустроенно. Зарабатывать на жизнь для возникшей своей семьи приходилось и преподаванием в неинтересных вузах, и писанием популярных статей, и чтением популярных лекций по физике, и переводами книг.
Но положение в физике в целом в стране быстро менялось к лучшему. В Петрограде-Ленинграде уже возникли крупные физические институты, каких прежде в России вообще не было. Прежде всего — это Физико-технический институт, организованный А. Ф. Иоффе, ставший колыбелью многих, постепенно, с начала 30-х годов, отпочковывавшихся от него институтов, причем не только в своем городе. В Харькове, Днепропетровске, Свердловске (Екатеринбурге) и Томске возникали новые институты, в которых ядро составляли приезжавшие туда готовыми группами питомцы института А. Ф. Иоффе (Харьковский и Свердловский стали потом мощными научными центрами). Другой крупный институт, Оптический институт Д. С. Рождественского, имел в очень большой степени прикладную тематику (фактически только благодаря нему у нас смогла возникнуть «на пустом месте» промышленность с массовым производством широчайшего круга оптических приборов), но сочетавший это с исследовательской работой по самым глубоким вопросам оптики. Не случайно в нем, помимо самого Д. С. Рождественского, работали такие физики, как В. А. Фок, С. И. Вавилов, А. Н. Теренин. Наконец, нельзя не вспомнить Ренгеновский и радиологический институт В. Г. Хлопина, в котором впоследствии, в 1937 г., был запущен первый в Европе циклотрон.
В Москве столь мощное развитие началось несколько позже. Существенным толчком был переезд в Москву в 1925 г. Л. И. Мандельштама, возглавившего в университете кафедру теоретической физики. Игорь Евгеньевич стал приват-доцентом физического (точнее, тогда еще не разделенного физико-математического) факультета уже в 1924 г., а в 1930 г. заменил Л. И. Мандельштама в качестве заведующего кафедрой теоретической физики.
Вокруг Л. И. Мандельштама объединилась и лучшая часть преподавателей, и молодые аспиранты — А. А. Андронов, А. А. Витт, М. А. Леонтович, Г. С. Горелик, С. Э. Хайкин, С. М. Рытов и др. Стоит подчеркнуть, что приглашение Л. И. Мандельштама в Москву произошло после долгой борьбы этих людей против остальной профессуры. При этом значительную роль сыграла молодежь, в частности, входившая в общественные организации университета, которые тогда имели большую силу (среди них особой активностью отличался студент А. А. Андронов, впоследствии академик). Из преподавателей большую роль в приглашении Мандельштама сыграл молодой С. И. Вавилов.
Но физика в Москве развивалась и в новых технических институтах, подобно упоминавшимся выше ленинградским, подчиненных Народному комиссариату (т. е. министерству) тяжелой промышленности. Так, возник Электротехнический институт, в Теоретическом отделе, или Отделе физики которого в конце 20-х годов по совместительству работал и И. Е. Тамм. Любопытно, что его важнейшие работы по квантовой теории излучения, о которых будет сказано ниже, были опубликованы как выполненные в этом институте.
Примерно в то же время там начали работать известные оптики, ученики Л. И. Мандельштама и Г. С. Ландсберга — В. А. Фабрикант, В. Л. Грановский, К. С. Вульфсон. Другие прикладные вопросы физики разрабатывались, например, под руководством А. С. Предводителева в Теплотехническом институте, который возглавлял крупный и широко образованный инженер Л. К. Рамзин (впоследствии осужденный как глава мифической «Промпартии»).
Государство, насколько возможно, не жалело средств на развитие науки, направляя их, как видим, даже через промышленный наркомат. Однако в стране не было еще собственного производства исследовательской аппаратуры. Сотрудники (в 1930 г. в их числе был и я, тогда лаборант Теплотехнического института) ходили по комиссионным магазинам, скупая все подходящее: испорченные амперметры и вольтметры фирм Хартмана-Брауна или Сименса-Гальске, которые еще можно было починить, объективы от старых фото- и киноаппаратов и т. д. Командированные за рубеж физики часто на свои деньги покупали нужные материалы. Но и само бедное еще государство, тем не менее, во все более возрастающем масштабе закупало приборы за границей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: