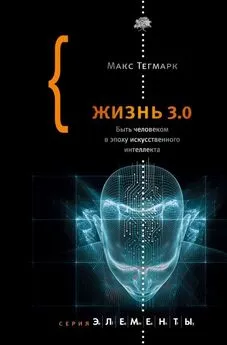Юрген Каубе - Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох
- Название:Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дело
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7749-1143-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрген Каубе - Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох краткое содержание
Юрген Каубе (р. 1962) изучал социологию в Билефельдском университете (Германия), в 1999 г. вошел в состав редакции газеты
, возглавив в 2008 г. отдел гуманитарных наук, а в 2012 г. заняв пост заместителя заведующего отделом науки и культуры. В том же 2012 г. был признан журналистом года в номинации «Наука» по версии журнала
. В январе 2015 г. стал соредактором
и получил престижную премию Людвига Берне.
Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако для Вебера «социология музыки» и в целом «социология искусства» не заключается в первую очередь в выявлении фактов, подтверждающих смысловую зависимость произведений искусства от социальных условий — в отличие от Вернера Зомбарта, который совершенно серьезно полагал, что громкость звука в современной музыке связана с высоким уровнем шума в больших городах. На это бесхитростное объяснение внутренней громкости уровнем внешних шумов, где искусство, по сути, оказывается не более чем «зеркалом» общества, Вебер на первом съезде социологов дал остроумный ответ, указав на лирику Стефана Георге: он тоже реагирует на шум и суету цивилизованного мира больших городов возведением неприступных для техники крепостей, что, напротив (сам Вебер не формулирует этот вывод, но подталкивает к нему своих слушателей), заставляет нас и тихое искусство, и «Парк кажется умершим, но вглядись» объяснять громкой жизнью вокруг парка [527] Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages, Sombart: S. 73 und Weber: S. 98.
.
Но если здесь Вебер еще вполне традиционно, как и Зомбарт, считает задачей социологии музыки изучение отношений между ее «духом» и темпом и чувством жизни в эпоху ее создания, то вскоре его подход меняется. Теперь общество в его понимании представлено не в содержании, а в рациональных средствах, доступных для музыкального выражения. Способ обращения с иррациональностью, т. е. с тем фактом, что музыка не подчиняется целиком законам математики, становится для него критерием различения разных культур рациональностей.
История музыки в западноевропейской культуре является для Вебера показательным подтверждением того, что между чувством и рациональностью нет противоречия, а есть лишь адекватная выражению эстетическая форма рациональности. Около 1910 года мысль о том, что развитие отдельных «ценностных сфер» происходит по особым, присущим только им законам, все больше занимает Вебера. Это, в свою очередь, означает, что существует не одна рациональность, а много, и единственное, что их объединяет, — это то, что каждая в своей области приложения имеет своей целью предсказуемость воздействия и контроль над ним. Применительно к музыке контроль над воздействием достигается путем применения специфических композиторских техник и инструментов для извлечения определенных звуков. Предсказуемость, в свою очередь, означает направленные на музыку ожидания в отношении определенных социальных воздействий, например, пробуждения определенных чувств «церковными звуками», песней или тристан–аккордом. Есть основания полагать, что хорошо темперированный клавир Мины Тоблер дал Веберу решающий толчок, позволив ему сформулировать эту мысль о рациональности в том числе и того, что на первый взгляд кажется совершенно иррациональным.
ГЛАВА 20. Вспыльчивый характер? Выступления на публике, сцены в суде, спор между учеными
Никто не может оскорбить человека, кроме него самого.
«Безумие дуэлей», анонимный автор, 1764Подразумевает ли «принадлежность к конкретному народу душевное богатство»? Сегодня мы бы уже не стали формулировать этот вопрос так, как это сделал Пауль Барт в октябре 1912 года на Втором съезде немецких социологов. Скорее всего, мы говорили бы не о душе и народе, а об идентичности, общности, «мы–чувстве», менталитете и «imagined communities» [528] воображаемые сообщества ( англ .). — Примеч. пер.
, а вопрос о душевном богатстве оставили бы за скобками. Некоторые, в том числе и Макс Вебер, уже тогда полагали, что так было бы лучше — хотя бы потому, что совсем не просто представить себе человека, который не принадлежал бы ни к какому «конкретному народу». Даже у людей без гражданства есть, по крайней мере, национальность. Тогда в Берлине Барт, внештатный философ Лейпцигского университета, первым выступал по общей теме съезда «Нация и национальность». Это был гладкий и с точки зрения социологии, да, пожалуй, и с любой другой точки зрения довольно безынтересный доклад. Фридрих Майнеке еще четыре года назад в своей книге «Космополитизм и национальное государство» представил более прогрессивный подход, основанный на различении народа и государственной и культурной нации. В выступлении Барта были полезные идеи, однако в нем довольно путано говорилось о чувстве солидарности, вражде и экзогамии, о ранних государствах и племенных богах, пока, наконец, не была высказана основная идея различения отечества и космополитизма. Барт не допускал ни малейших сомнений в том, что с точки зрения философии нет никакого противоречия между национальностью и гуманностью, поскольку именно принадлежность к народу и есть источник альтруизма: «Проявлять интерес ко всему человечеству способны лишь немногие, ибо человечество гораздо менее конкретно, чем народ и социальный класс». Затем Барт собирался обратиться к вопросу о том, не лучше было бы с точки зрения прогресса, «если бы государство было не национальным, а интернациональным?». Однако согласно протоколу «на этом доклад был прерван» [529] Barth: “Die Nationalität in ihrer soziologischen Bedeutung w , S. 47.
.
На следующий день «Франкфуртер цайтунг» сообщает, что в этом месте председатель Немецкой социологической ассоциации Фердинанд Теннис обратил внимание Барта на то, что члены ассоциации должны воздерживаться от оценочных суждений, ибо так предписывает самый первый параграф ее устава. Далее последовало еще одно «решительное пресечение». Барт хотел было уже продолжить, как Макс Вебер в возмущении воскликнул: «Это строго запрещено, Вы не имеете права говорить об оценочных суждениях!» Барт в замешательстве — он так и так не собирался говорить об оценочных суждениях, он сам хотел судить и оценивать. Пауза. Барт снова прерывает свой доклад. Аплодисменты. Участники съезда переходят к дискуссии. Вебер кипит от возмущения, принимает живейшее участие в обсуждении, а на следующий день подтверждает свою позицию конкретными действиями, которые кажутся заранее подготовленными и имеют далеко идущие последствия. «В этом вопросе я ни за что не стал бы соблюдать „меру“», — пишет он в своем послании, в котором сообщает о своем выходе из Социологической ассоциации по причине своей непреклонной позиции в отношении отказа от ценностных суждений [530] MWG II/7–2, S. 709.
.
Смена декораций. За два года до этого, 3 декабря 1910 года, газета «Гейдельбергер тагеблатт» публикует письмо читателя — местного приват–доцента философии Арнольда Руге. В нем этот бывший ассистент Вильгельма Виндельбанда высказывает свое возмущение женским движением. По его мнению, оно «постепенно превращается в скандал, который возмущает не только настоящих женщин, но и мужчин». Руге еще дважды говорит о настоящих женщинах и тех, «кто не может быть женщиной и не хочет быть матерью», чтобы, в конце концов, выразить свою мысль еще более конкретно: женское движение состоит «из старых дев, бесплодных жен, вдов и евреек». Матерей, повторяет он еще раз, среди них нет [531] MWG II/6, S. 715. Руге многого достиг на этом поприще: в июле 1920 года его лишили права преподавать по причине антисемитских высказываний в адрес университетских преподавателей, вскоре после этого он стал членом добровольческого корпуса, вместе с Генрихом Гиммлером основал издательство, в 1933 году со второго захода был принят в НСДАП, получил должность архивариуса, написал статью о средневековой «охоте на ведьм» как о результате сговора католической церкви с евреями.
. Поводом для Руге послужило состоявшееся четырьмя днями ранее собрание союза «Образование женщин и право женщин учиться в университете», которым руководила Марианна Вебер. На собрании обсуждалось предложение представительницы социал–демократической партии, феминистки Лили Браун о создании общих кухонь в многоквартирных домах для того, чтобы облегчить бремя домашних забот среди женщин из рабочих и буржуазных семей [532] Braun: Frauenarbeit und Hauswirtschaft, Berlin 1901, S. 21. Cp. Meurer: Marianne Weber, S. 282. О развитии этого конфликта см.: Obst: Ein Heidelberger Professorenstreit; von Olenhusen: “Ehre, Ansehen, Frauenrechte“; Weischenberg: Max Weber und die Entzauberung der Mdien.
.
Интервал:
Закладка: