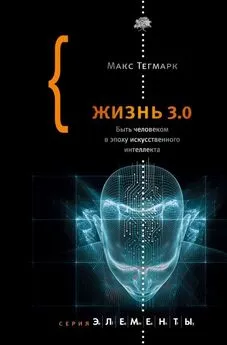Юрген Каубе - Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох
- Название:Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дело
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7749-1143-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрген Каубе - Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох краткое содержание
Юрген Каубе (р. 1962) изучал социологию в Билефельдском университете (Германия), в 1999 г. вошел в состав редакции газеты
, возглавив в 2008 г. отдел гуманитарных наук, а в 2012 г. заняв пост заместителя заведующего отделом науки и культуры. В том же 2012 г. был признан журналистом года в номинации «Наука» по версии журнала
. В январе 2015 г. стал соредактором
и получил престижную премию Людвига Берне.
Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начиная с 1910 года Вебер во многих своих работах использует понятийную пару, которая точно отражает описанную выше проблему и на которую нередко ссылаются и в наши дни: речь идет об этике убеждения и этике ответственности. Первая, отражая позицию «панморализма», полностью подчинена лежащим в ее основе ценностным принципам. Она не допускает компромиссов, но зато мирится со всеми издержками, вытекающими из соответствующих действий; по сути же, между этими действиями и их последствиями не прослеживается никакой рациональной связи. Убеждение — вот подлинная цель, освящающая средства, вне зависимости от того, удается ли достичь с их помощью (утопической) цели или нет. Анархисты–революционеры и первые христиане — наиболее показательный пример этой позиции с той лишь разницей, что последние ожидали скорого конца света, тогда как первые, наоборот, хотели построить новое общество. Этой позиции Вебер противопоставляет ориентацию на «культуру», которая предполагает действие в соответствии с политическими, экономическими и прочими условиями. Культура — это компромисс между этическими и объективными (материальными) требованиями. И если первое — решительный отказ приспосабливать свое поведение к чему–либо, кроме собственных ценностей, — есть этика убеждения, а последнее–готовность к компромиссу во имя ценностей — мы называем этикой ответственности, то тогда ответственность означает, что действующий субъект готов отвечать за последствия своих решений и при определенных условиях признать действие неудавшимся. По сути, сторонники этики убеждения демонстрируют ритуалистическое отношение к последствиям своих действий, тогда как сторонников этики ответственности можно упрекнуть в техническом отношении к убеждениям [669] GARS I, S. 553; GARS И, S. 193; WL, S. 505; GPS, S. 539; письмо Роберту Михельсу от 04.08.1908, MWG I/5, S. 615.
.
По мнению Вебера, для каждого отдельного человека возможно либо одно, либо другое [670] Дальнейшую дифференциацию этих двух видов этики см. у Шлюхтера. Schluchten Religion und Lebensführung, 165–332.
. Шумпетер в его глазах не признавал самого этого различения и, соответственно, не видел необходимости в принятии решения в пользу одной из сторон. Этот коллега являл собой пограничный случай, придерживаясь морально индифферентной позиции, ибо сам он не участвовал в русской революции с целью выяснить, насколько она эффективна. Впрочем, в данном случае индифферентность может оцениваться как солидарность с одной из сторон, например, если трактовать ее как отказ от критики: в политике действует принцип Талейрана, согласно которому невмешательство равносильно вмешательству на стороне более сильного противника. Однако не слишком ли расширяются границы политического, если каждого, кто не имеет своей позиции в том или ином конфликте, можно обвинить в интеллектуальной поддержке более сильного? Если в конечном итоге все сводится к борьбе за власть? Тогда и совершенно обычное безразличие, скажем, судьи в отношении последствий вынесенного им приговора или ученого в отношении последствий полученных им знаний тоже можно было бы трактовать как безответственность. Такая тенденция прослеживается в веберовской концепции «ценностного политеизма», где каждый обязан принять последнее, самое важное решение. Он, правда, допускает, что кто–то в этом противостоянии кумиров может принять решение не в пользу политики, а, например, в пользу религии, науки или искусства. Однако сама борьба для Вебера носит политический характер, ибо в конечном счете именно политика, по его мнению, решает, какая «культура», т. е. реализация каких ценностей возможна на данной территории и при каких обстоятельствах она будет осуществляться.
Вернемся, однако, к реальности. Вебер был глубоко убежден в том, что Германия по праву претендует на статус великой мировой державы и что этот статус желателен для нее: сопутствующий ему экономический рост пошел бы на пользу буржуазии, что ускорило бы либерализацию страны. И вот на его глазах происходит катастрофа. Он говорит о «позоре» империи: ни у одного народа в истории честь не страдала так сильно, как пострадала честь немецкого народа. Он опасается гражданской войны и интервенции; его посещают видения «мучительно уродливой смерти старой Германии», но, несмотря на это, он верит в ее «стойкость» и воскрешает в памяти годы после поражения в войне с Наполеоном в 1807 году: «Мы сделаем это снова». Ноябрьскую революцию, начавшуюся в 1918 году с Кильского восстания моряков против военного правления и вскоре охватившую всю Германию, Вебер называет «несуразным балаганом», «омерзительным и скудоумным карнавалом», «своего рода наркотиком», притупляющим боль от лишения чести [671] «позоре», письмо Отто Крузиусу от 26.12.1918, MWG II/10-1, S. 389; «мучительно…» письмо Эльзе Яффе от 12.11.1918, Ebd., S. 296; «стойкость», письмо Отто Крузиусу от 26.12. 1918, цит. по LB, S. 649; «Мы сделаем…», письмо Отто Крузиусу от 24.11.1918, MWG II/10-1, S. 321; «несуразным балаганом», письмо Мине Тоблер от 15.11.1918, Ebd., S. 307; «омерзительным…», письмо Гансу Груле от 13.12.1918, Ebd., S. 355; «своего рода…», письмо Хелене Вебер от 19.11.1918, Ebd., S. 310.
.
Что именно привело к утрате чести — сам позор поражения или же непреодолимый разрыв между ходом войны и непрекращающимся напором пропаганды на протяжении четырех лет, Вебер не объясняет, однако есть основания полагать, что он видел причину именно во втором обстоятельстве. «Это превращение всего населения в сброд невыносимо, это все что угодно, но не „демократия“»: он видит, что война высвобождает не только благородные устремления, и отмечает для себя, как в том, что до сих пор составляло непрерывность его интеллектуальной жизни, появляется брешь. «Вступление войск в город было ужасным», — пишет он о возвращении немецкой дивизии с западного фронта во Франкфурт и затем рисует сцену, напоминающую картины Джеймса Энсора или Отто Дикса: «громовое „ура!“ на протяжении нескольких часов и истощенные солдаты в касках; что это — шествие призраков или карнавал? Мороз по коже». Вебер за свою короткую жизнь сыграл много ролей, пережил много кризисов и не раз менял интересы. Сначала в центре его исследований был капитализм, потом — социологические понятия и история мировых религий, ближе к концу — анализ бюрократии и рационализации в рамках социологии господства, государства и права. Однако одним из главных его ориентиров всегда оставался идеальный образ верной долгу буржуазной элиты Германии; именно он служил ему критерием для оценки фактического положения его социального слоя и империи в целом. Теперь же он видит, что страшнее приспособленчества, на которое он всегда сетовал, была ложь, пропитавшая все насквозь, а ненависть была сильнее и страшнее бахвальства, которое раздражало его больше всего. И хотя в капитуляции он обвиняет революционеров, он знает, что левые не несут ответственности ни за само поражение, ни за духовное состояние страны. Три миллиона погибших, из них почти миллион — мирное население, более четырех миллионов раненых, почти три миллиона физически увечных и психически травмированных в Германии. Всего по итогам войны семнадцать миллионов погибших, из них почти восемь миллионов — гражданские лица, двадцать один миллион раненых. По мнению Вебера, в том, что немцы стали «народом–парией для всей земли», был виноват политик–дилетант Вильгельм II, а также послушная ему исполнительная власть [672] «это превращение…», письмо Мине Тоблер от 04.12.1918, MWG II/10-1, S. 337; «народом–парией…», MWG I/15, S. 419.
.
Интервал:
Закладка: