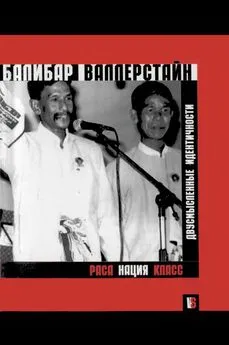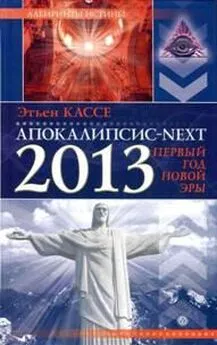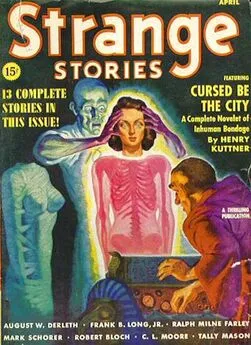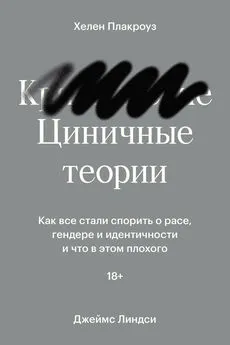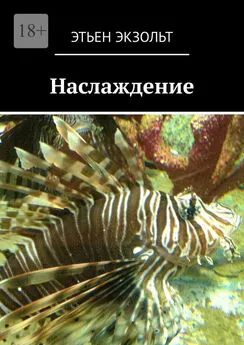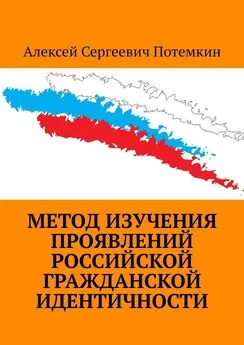Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Название:Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-8163-0058-х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. краткое содержание
(«The Modem World-System», 1974-1988 (3 т.)) американца Иммануила Валлерстайна.
Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это заставляет нас обратить внимание на один исторический факт, который еще труднее признать, чем первый, и, однако же, этот факт является ключевым – речь идет о французской национальной форме расистских традиций. Несомненно, существует специфически французское направление арийских учений, антропометрии и биологического генетизма, но настоящая «французская идеология» заключается в другом: в идее вселенской миссии просвещения человеческого рода культурой «страны Прав Человека», чему соответствует практика ассимиляции подчиненных народов и, следовательно, необходимость различать индивиды и группы, выстраивать их иерархии исходя из их большей или меньшей способности быть ассимилированными или сопротивляться ассимиляции. Именно эта одновременно утонченная и жестокая форма исключения/включения была развита в ходе колонизации как собственно французский (или «демократический») вариант «бремени белого человека». Я еще постараюсь вернуться к парадоксам универсализма и партикуляризма в функционировании расистских идеологий, или же в расистских аспектах функционирования идеологий [14] Ср. ниже мое исследование «Расизм и национализм».
.
И наоборот, нетрудно заметить, что в неорасистских доктринах исчезновение темы иерархии – скорее видимость, чем реальность. И в самом деле, идея иерархии, которую можно сколько угодно во всеуслышание объявлять абсурдной, восстанавливается, с одной стороны, в практическом применении доктрины (где об иерархии не обязательно объявлять открыто), а с другой стороны, в самом типе критериев, применяемых для осмысления различия культур (и это снова вводит в игру логические ресурсы «второго порядка», метарасизма).
Профилактика смешения культур фактически осуществляется там, где культурные институты – это государственные институты, там, где образ жизни и образ мысли господствующих классов и, по меньшей мере официально, «национальных» масс легитимирован институционально. Таким образом, эта профилактика выступает в единственном смысле: как запрет на самовыражение и социальное продвижение. На деле никакой теоретический дискурс о достоинстве каждой культуры неспособен сгладить тот факт, что «черному» в Англии или «бёру» во Франции ассимиляция, без которой он не сможет быть «интегрирован» в общество, в котором уже живет (и в котором его всегда будут подозревать в деланности, несовершенстве, подражательности), представляется прогрессом, эмансипацией, наделением правами. И за этой ситуацией стоят слегка обновленные вариации той мысли, что исторически человеческие культуры подразделяются на два больших класса: универсальные и прогрессивные и непоправимо частные, примитивные. Этот парадокс неслучаен: «последовательный» дифференциалистский расизм был бы унифицирующе консервативен, он боролся бы за неизменность всех культур. Да он и на деле таков, поскольку, под предлогом защиты культуры и европейского образа жизни от поглощения «третьим миром», он закрывает европейской культуре любую возможность реальной эволюции. Но этот расизм вводит старое различение: различение обществ на «закрытые» и «открытые», «неподвижные» и «предприимчивые», «холодные» и «горячие», «коллективистские» и «индивидуалистические» и т.п. Это различение, в свою очередь, играет на всей многозначности понятия культура (особенно в случае французского языка!).
Исходя из различия культур, рассматриваемых как отдельные сущности (Kultur) или символические структуры, опознается культурное неравенство в самом «европейском» пространстве или, лучше сказать, сама «культура» (Bildung, образование с его различениями культуры ученой и народной, технизированной и фольклорной, и т.п.) опознается как структура неравенств , которая тенденциозно воспроизводится в индустриализованном обществе со средним и высшим образованием, все более и более интернационализируемом и глобализируемом. «Различные» культуры препятствуют, или даже создаются, чтобы препятствовать (с помощью школы, норм международного общения и т. д.) приобретению Культуры. И наоборот, «обделенность культурой» у подчиненных классов представляется практическим эквивалентом их чуждости или образом жизни, в особенности подверженным разрушительным эффектам «смешивания кулыур» (то есть тем материальным условиям, в которых осуществляется это «смешивание») [15] Очевидно, что именно это подчинение «социологического» различия культур институциональной иерархии Культуры , решающей инстанции социальной классификации и ее натурализации, ответственно за «расовые конфликты» и ressentiment по поводу присутствия иммигрантов в школе – конфликты и озлобленность намного более сильные, чем возникающие вследствие простого соседства с ними. Ср.: S. Boulot et D. Boyson-Fradet. L’echec scolaire des enfants de travailleurs immigrés – L’Immigration maghrébine en France, № spécial – Les Temps modernes, 1984.
. Это латентное присутствие темы иерархии выражается сегодня прежде всего в привилегированном положении индивидуалистической модели (так же как в предшествующую эпоху расизм, открыто основанный на неравенстве, для провозглашения постулата о сущностной неизменности расовых типов должен был предположить дифференциалистскую антропологию, основанную на генетике или «Völkerpsychologie»): культуры, притязающие на то, чтобы быть высшими, должны были объявлять приоритетной ценностью и покровительствовать «индивидуальной» предприимчивости, социальному и политическому индивидуализму, в отличие от «низших», не делающих этой ставки. Такими виделись культуры, «общественный дух» которых должен был задаваться индивидуализмом.
Таким образом можно понять, чем объясняется возвращение биологической темы , выработка новых вариантов «биологического мифа» в рамках культурного расизма. Как известно, в этом отношении ситуация варьируется в зависимости от страны. Теоретические «отологические» и «социобиологические» модели (отчасти конкурирующие между собой) более влиятельны в англо-саксонских странах, где они, непосредственно заимствуя политические задачи воинственного неолиберализма, оказываются преемниками традиций социал-дарвинизма и евгеники [16] Ср. M. Barker, The New Racism.
. Тем не менее сами эти биологизирующие идеологии в основе своей зависят от «дифференциалистской революции». Они стремятся объяснить не строение рас, но жизненную важность традиций и перегородок между культурами для накопления индивидуальных навыков; а прежде всего – «естественные» основы ксенофобии и социальной агрессивности. Агрессивность – к этой фиктивной сущности одинаково апеллирует любая форма неорасизма, и в данном случае она позволяет сместить уровень биологизма : без сомнения, речь идет уже не о расах, а о населении и культуре, но вместе с тем мы имеем дело с биологическими (и биопсихическими) причинами и следствиями культуры и биологическими реакциями на культурное различие (образующими неизгладимый след «животности» в человеке, все еще связанном со своей расширяющейся «семьей» и со своей «территорией»). И наоборот, там, где, как кажется, господствует «чистый» культурализм (как, например, во Франции), можно наблюдать все большее его отклонение в сторону выработки дискурсов о биологии, о культуре как внешней регуляции «живого», как его воспроизводстве, эффективности, здоровье. Это предчувствовал, в частности, Мишель Фуко [17] Michel Foucault, La Volonté de savoir , Gallimard 1976.
.
Интервал:
Закладка: