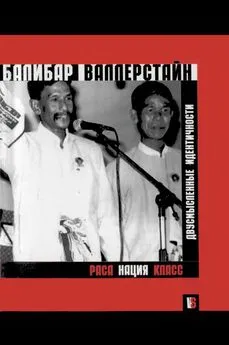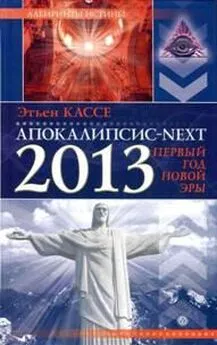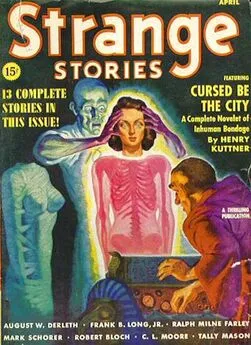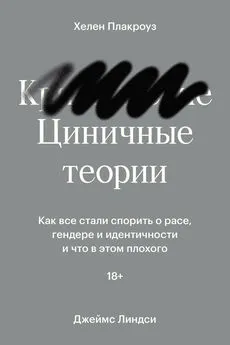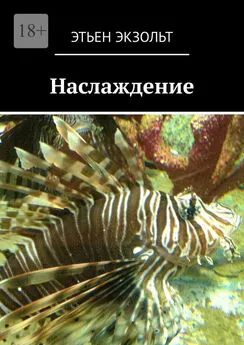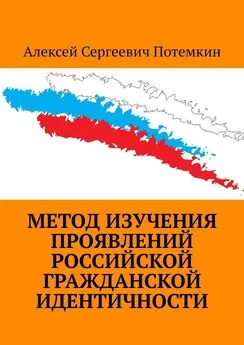Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Название:Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-8163-0058-х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. краткое содержание
(«The Modem World-System», 1974-1988 (3 т.)) американца Иммануила Валлерстайна.
Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Состояние дел объективно таково, что по мере разрастания, большей рационализации и концентрации капиталистической системы конкуренция становится все более жесткой. Пренебрегающие императивом накопления сразу же становятся жертвами неумолимой агрессии конкурентов. На мировом рынке проявление каких бы то ни было «аристократических» слабостей карается еще более строго, оборачивается неизбежностью внутренней чистки «предприятия», особенно если оно является крупным и (квази-)национализированным.
Представители молодого поколения, желающие управлять наследуемым предприятием, сегодня должны получать интенсивное внешнее «универсалистское» образование. Мало-помалу роль технического менеджера стала значимой повсеместно. Именно фигура этого менеджера олицетворяет обуржуазивание капиталистического класса. Государственная бюрократия, если бы ей удалось реально монополизировать извлечение прибавочной стоимости, довела бы это олицетворение до предела, сделав все привилегии зависимыми от текущей активности человека и сведя на нет фактор индивидуального или классового наследования.
Вполне ясно, что развертывание этого процесса осуществляется под давлением рабочего класса. Все усилия рабочих получить доступ к рычагам экономической жизни и устранить несправедливость параллельно содействуют самоограничению капиталистов и возвращает их к идеалам буржуазности. Феодально-аристократическая праздность становится слишком вызывающей и политически опасной.
Таким образом, оправдывается историографический прогноз Карла Маркса: как материально, так и социально происходит поляризация населения на два больших класса – буржуа и пролетариев. Но какое значение в этом отношении имеет вводимое различение между плодотворными и неплодотворными для выработки историографии прочтениями Маркса? Оно становится принципиально значимым при разборе вопроса о теории «перехода» к социализму, даже более того – при разборе вопроса о возможности теории «перехода» вообще. При том, что Маркс говорит об относительной «прогрессивности» капитализма, он также говорит о буржуазных революциях – о буржуазных революциях как своего рода краеугольном камне многообразных «национальных» переходов от феодализма к капитализму.
Само понятие буржуазной «революции», помимо ее сомнительных эмпирических качеств, наводит нас на мысли о пролетарской революции, с которой первая некоторым образом связана – равно как предшествующая и как обуславливающая ее. Современность становится суммой этих двух последовательных «революций». Конечно, эта последовательность не является ни безболезненной, ни постепенной – она скорее насильственна и разрывна. Но тем не менее эта последовательность неотвратима, как равно неотвратимой являлась последовательность от феодализма к капитализму. Этими понятиями диктуется целая стратегия борьбы рабочего класса – стратегия, содержащая в себе моральное обвинение пренебрегающей своей исторической ролью буржуазии.
Однако если буржуазных «революций» не существует, если имеются лишь междоусобицы алчных капиталистических групп – тогда нет ни модели для повторения, ни должной быть преодоленной социополитической «отсталости». Возможно даже, что единственной «буржуазной» стратегией является уклонение от какой бы то ни было стратегии. Что если «переход» от феодализма к капитализму не являлся ни прогрессивным, ни революционным, а был большой аферой правящих слоев, позволившей им усилить контроль над трудящимися массами и увеличить уровень эксплуатации (сейчас мы говорим языком другого Маркса)? Отсюда мы можем заключить, что даже если сегодня какой-то переход и является неизбежным, то он не является неизбежным переходом к социализму (т. е. переходом к эгалитарному миру, производство в котором ориентировано на увеличение потребительной стоимости). Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым вопросом сегодня является вопрос о направлении этого глобального перехода.
То, что кончина капитализма не заставит себя долго ждать, представляется мне равно и очевидным, и желанным. Это легко показать через анализ его «объективных» эндогенных противоречий. Равно очевидным мне представляется и то, что будущее нашего мира остается открытым и зависит от исхода продолжающейся борьбы за то, каким он будет. Определяя стратегию перехода к нему, мы фактически определяем нашу судьбу. Вряд ли мы обретем дельную стратегию, занимаясь апологией исторической прогрессивности капитализма. Делая такого рода историографический акцент, мы подвергаем себя риску оказаться пленниками стратегии, которая приведет нас к «социализму» – к системе, не более прогрессивной, чем та, что мы имеем сегодня, к перевоплощению той же системы.
9. БУРЖУА(ЗИЯ) : ПОНЯТИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ С XI ПО XXI ВЕК [97] («The Bourgeois(ie) as Concept and Reality». Первоначально опубликовано в изд.: New Left Review , #167, jan.-febr.. 1988)
И. Валлерстайн
«Определить понятие буржуа?
- Мы бы никогда не договорились».
Эрнест Лабрусс[98] Ernest Labrousse. Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie occidentale aux XVIIIe et XIXe siecles (1700-1850) – Relazioni de X Congresso Internazionale di Scienze Storiche , IV: Storia Moderna. Firenze, G.C. Sansoni Ed., 1955, p. 367.
В мифологии современного мира буржуа выступает его преимущественным протагонистом. Герой для одних, негодяй для других, источник вдохновения или центр притяжения для большинства, – он был силой, формирующей облик настоящего и разрушающей прошлое. В английском языке мы, как правило, избегаем употребления термина «буржуа», предпочитая ему выражение «средний класс»(или «средние классы»). Есть легкая ирония в том, что несмотря на хваленый индивидуализм англо-саксонской мысли, в английском языке не существует подходящей формы единственного числа для обозначения представителя «среднего класса (классов)».
Согласно мнению лингвистов, термин «буржуа» впервые появился в латинской форме burgensis в 1007 году и вошел во французский язык как burgeis около 1100 года. Изначально он обозначал жителя «bourg», городской зоны, но жителя, который был «свободным». [99] Georges Matoré. Le vocabulaire et la société médiévale. Paris, Presses universitaires de France, 1985, p. 292.
Свободным, однако, от чего? Свободным от обязательств, которые были социальным цементом и экономическим остовом феодальной системы. Буржуа не был ни крестьянином, ни крепостным, но также он не был и дворянином.
Таким образом, с самого начала буржуа являл собой как аномалию, так и двусмысленность. Аномалию – поскольку, по логике вещей, для буржуа не было места в иерархической структуре и системе ценностей феодализма с его классическими тремя сословиями, которые в то время, когда возникло понятие «буржуа», сами еще пребывали в процессе кристаллизации. [100] Georges Duby. Les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Paris, Gallimard, 1978.
А двусмысленность заключалась в том, что понятие «буржуа» было тогда (как остается и по сей день) термином, выражавшим как почтение, так и насмешку, как похвалу, так и упрек. Говорят, что Людовик XI гордился почетным титулом «буржуа Берна» [101] M. Canard. Essai de sémantique: le mot «bourgeois» – Revue de philosophie française et de littérature , XXVIII, 1933, p. 33.
. С другой стороны, Мольер написал хлесткую сатиру на «мещанина во дворянстве» (le bourgeois gentilhomme), а Флобер сказал: «J'appelle bourgeois quiconque pense bassement» («Я называю буржуа всякого, кто мыслит низко».)
Интервал:
Закладка: