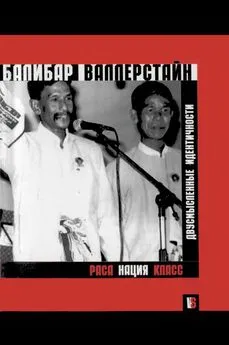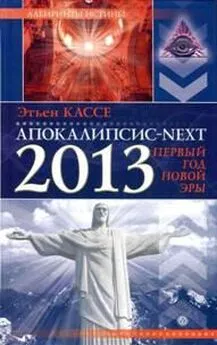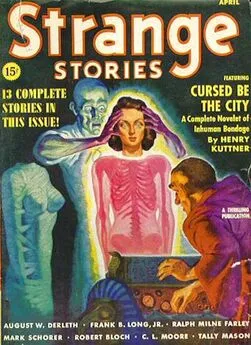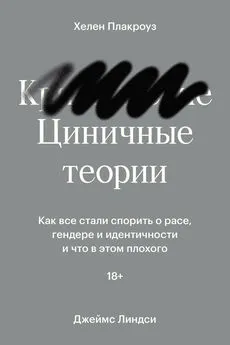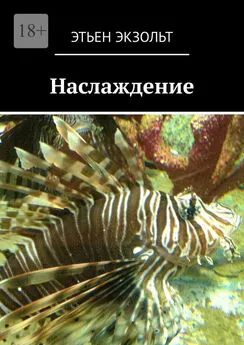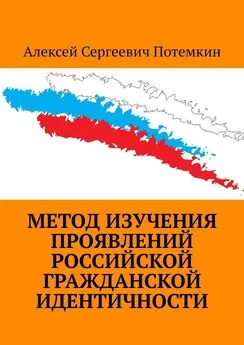Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Название:Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-8163-0058-х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Этьен Балибар - Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. краткое содержание
(«The Modem World-System», 1974-1988 (3 т.)) американца Иммануила Валлерстайна.
Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То, как эта проблема выступает даже в поверхностных исторических наблюдениях, дает понять, что «рабочий класс» существует не в силу наличия одной-единственной более или менее однородной социологической базы, но только там, где имеет место рабочее движение. И более того, дает понять, что рабочее движение возможно только там, где существуют рабочие организации (партии, профсоюзы, биржи труда, кооперативы).
И здесь мы обнаруживаем сложные и интересные вещи. На самом деле не следует поддаваться редукционизму, предлагающему идеализированное представление о «классе-субъекте», и отождествлять рабочее движение с рабочими организациями, а даже относительное единство класса – с рабочим движением. Между этими понятиями всегда существует значительный разрыв, создающий противоречия в реальной социально-политической истории классовой борьбы. И следовательно, рабочие организации не только никогда не «представляли» рабочее движение в целом, но и периодически оказывались вынуждены входить с ним в противоречия – как потому, что их «представительство» основывается на идеализации определенных частей «рабочего коллектива», занимающего центральное место на данном этапе индустриальной революции, так и потому, что оно оказывается формой компромисса с государством. И рабочее движение постоянно вынуждено восставать против существующих практик и форм организации. Вот почему внутренние разделения, идеологические конфликты («реформизм» vs. «революционного разрыва»), классические дилеммы все время возрождающегося противостояния «спонтанизма» vs. «дисциплины» представляют собой не случайности, но саму сущность таких отношений.
Точно так же рабочее движение никогда не выражало и не включало в себя всех классовых практик (всех форм социальности рабочих), связанных с условиями жизни и труда, характерных для рабочего пространства завода, семьи, среды, этнической солидарности и пр. Не потому, что «сознание запаздывает», но в силу неизбежного разнообразия интересов, форм жизни и дискурсов, которые характеризуют пролетаризованных индивидов, каким бы насильственным ни было принуждение и эксплуатация (не говоря уже о самом различии форм этой эксплуатации). Напротив, именно эти классовые практики – профессиональные традиции, коллективные стратегии сопротивления, культурные символики – каждый раз наделяют рабочие движения (стачки, выдвижение требований, бунты) и организации их способностью к консолидации.
Пойдем далее. Существует не только постоянный разрыв между практиками, движениями, организациями, создающими «класс» в его относительной исторической непрерывности, но и каждая из этих определенностей не может быть выделена в чистом виде. Любая организация класса (в частности, любая массовая партия), даже когда она развивает «исключительно рабочую» идеологию, никогда не бывает чисто рабочей организацией. Напротив, она всегда основана на более или менее конфликтном схождении, на смешении определенных «авангардных» рабочих фракций и групп интеллектуалов, либо приходящих извне, либо выделившихся в партии изнутри как «органические интеллектуалы». Точно так же любое значительное общественное движение, даже когда оно акцентирует свою пролетарскую направленность, никогда не основывается на чисто антикапиталистических требованиях и целях, но всегда предполагает комбинацию целей антикапиталистических и демократических (или же национальных, или же пацифистских, или же культурных в широком смысле этого слова). Точно так же элементарная солидарность, связанная с классовыми практиками, в сопротивлении и в верности социальной утопии, всегда является, в зависимости от среды и исторического момента, одновременно солидарностью профессиональной и солидарностью поколения, пола, национальности, городского и сельского соседства, сослуживцев по армии и пр. (формы рабочего движения в Европе после 1914 года были бы немыслимы без опыта «старых товарищей по войне»).
И в этом смысле история показывает нам, что общественные отношения не устанавливаются между замкнутыми в себе классами, но, скорее, пересекают различные классы – включая рабочий класс – или, если угодно, показывает, что классовая борьба развертывается внутри самих классов. А также то, что государство, благодаря своим институтам, функциям посредничества и администрирования, идеалам и дискурсам, всегда уже присутствует в образовании классов.
Прежде всего это является верным по отношению к «буржуазии», и именно здесь «хромает» классический марксизм. Его концепция государственного аппарата как системы органов или «машины», внешней по отношению к «гражданскому обществу», – понимаемой либо как нейтральный инструмент по обслуживанию господствующего класса, либо как паразитирующая бюрократия, – концепция, унаследованная от либеральной идеологии и попросту обращенная против идеи «общего интереса», помешала марксизму осмыслить конститутивную роль государства.
Как мне кажется, можно утверждать, что всякая «буржуазия» есть в фундаментальном смысле государственная буржуазия. То есть буржуазный класс не захватывает власть в государстве после того, как он становится экономически господствующим классом, но напротив, становится экономически (социально и культурно) господствующим в той мере, в какой он развивает, использует и контролирует государственный аппарат, преобразуя и усложняя его для осуществления своей власти (или же проникая в общественные группы, обеспечивающие функционирование государства, – в армию и интеллигенцию). Это один из возможных смыслов идеи Грамши о гегемонии, доведенной до ее пределов. И следовательно, в строгом смысле не существует «капиталистического класса », но существуют только различные типы капиталистов (промышленники, торговцы, финансисты, рантье и пр.), формирующие класс только при условии намеренного объединения с другими общественными группами, на первый взгляд внешними для «фундаментальных общественных отношений»: с интеллектуалами, чиновниками, служащими, земельными собственниками и пр. Значительная часть политической истории современности демонстрирует изменчивость этого «союза». Это не означает, что буржуазия образуется независимо от существования капитала или капиталистических предпринимателей; но то, что единство самих капиталистов, примирение конфликтов их интересов, исполнение «общественных» функций, необходимое для того, чтобы иметь в своем распоряжении эксплуатируемый ручной труд, было бы невозможно без постоянного посредничества государства (и следовательно, без способности капиталистов – а они не всегда на это способны – преобразовать себя в «управляющих» государства и объединиться с некапиталистическими буржуа ради эффективного управления государством).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: