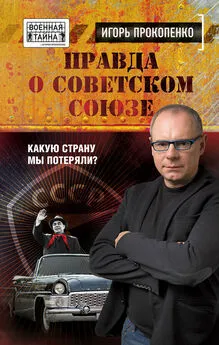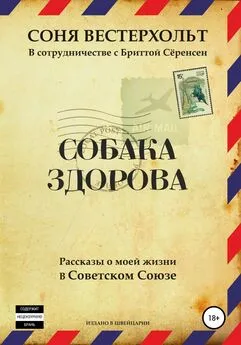Лорен Грэхэм - Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе
- Название:Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство политической литературы
- Год:1991
- ISBN:5-250-00727-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лорен Грэхэм - Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе краткое содержание
В работе профессора Массачусетского технологического института (США) Л. Р. Грэхэма на большом фактическом материале анализируется полная драматизма история взаимодействия диалектического материализма и советской науки в период с 1917 до середины 80-х годов. Автор подробно рассматривает дискуссии вокруг генетики, физиологии, психологии, кибернетики, химии, космологии, и других дисциплин, а также роль в истории нашей науки отдельных политических деятелей и ученых (И. В. Сталина, А. А. Жданова, Н. И. Вавилова, Т. Д. Лысенко, Б. М. Кедрова, О. Ю. Шмидта, А. И. Берга и др.).
Книга представляет интерес как для специалистов, так и для широких читательских кругов.
Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— человеческое знание прирастает со временем, что демонстрируется возрастающими успехами приложения этого знания на практике, однако это приращение осуществляется путем аккумулирования относительных, а не абсолютных истин.
История развития мысли ясно показывает, что ни один из вышеперечисленных принципов не является оригинальным завоеванием диалектического материализма, хотя, взятые в совокупности, они характерны только для этой концепции. Многие из перечисленных выше принципов или представлений поддерживались или высказывались различными мыслителями на протяжении последних двух тысяч лет. И сегодня многие ученые-практики в явной или неявной форме строят свою деятельность на основе допущений, во многом сходных с этими принципами (отсюда, кстати, вытекает часто высказываемое советскими авторами соображение о том, что выдающиеся ученые, не являющиеся марксистами, по крайней мере имплицитно являются сторонниками диалектического материализма). Однако даже весьма частое употребление большинства из наиболее общих принципов диалектического материализма не обесценило их. Прежде всего, эти принципы с наибольшей полнотой были разработаны и в наибольшей степени связаны с развитием науки именно в работах сторонников диалектического материализма, а не в любом другом своде литературы. Кроме того, несмотря на то, что некоторые из перечисленных принципов могут на первый взгляд показаться вполне приемлемыми и; не содержащими в себе чего-то необычного, существуют люди, не разделяющие этого взгляда. Так, многие, а возможно, и большинство философов отвергают приверженность диалектического материализма представлениям о первичности материи. В любой данный момент истории западной философии материализм никогда не был философской позицией, которую разделяло бы большинство философов; наиболее горячие его сторонники и защитники, как правило, не принадлежали к числу профессиональных философов. В дополнение к сказанному следует отметить, что диалектические материалисты выражали свое несогласие не только со взглядами их очевидных оппонентов в лице теистов и идеалистов, но также со взглядами материалистов старого типа — бескомпромиссных редукционистов, уверенных в том, что когда-нибудь все науки будут поглощены только одной — физикой. Суммируя сказанное, можно констатировать, что диалектический материализм, несмотря на то, что некоторые отмечают неопровержимый характер его наиболее общих принципов, по-прежнему остается достаточно противоречивым взглядом на мир — взглядом, находящим открытую поддержку лишь у незначительной части философов и ученых во всем мире. Если к упомянутым препятствиям, носящим скорее интеллектуальный характер, добавить политические, вытекающие из поддержки диалектического материализма со стороны бюрократического, авторитарного и репрессивного государства, то будет ясно, что нет ничего удивительного в том, что за пределами Советского Союза диалектический материализм имеет лишь относительно небольшое число сторонников. И все же следует заметить, что в интеллектуальном отношении диалектический материализм является вполне разумной, заслуживающей внимания точкой зрения, она представляется более интересной, чем было принято до сих пор считать философами и учеными за пределами Советского Союза.
Советский диалектический материализм в качестве философии науки черпает как из русской традиции, так и из традиции европейской философии. Его вклад в их развитие заключается прежде всего в подчеркивании роли естествознания как определяющего элемента философии. По мнению советских философов, с одной стороны, диалектический материализм помогает ученому-исследователю в его работе, а с другой — в свою очередь, испытывает на себе влияние результатов научного исследования. Время от времени критики диалектического материализма утверждают, что подобное описание отношений науки и философии, по существу, не является описанием вообще. Каков точный смысл, заключенный в заявлении о том, что «философия оказывает влияние на науку и, в свою очередь, испытывает на себе ее влияние»?
Разумеется, трудно дать ответ на этот вопрос, в котором бы содержалась точная оценка меры взаимного влияния философии и науки, однако совершенно ясно, что подобное взаимовлияние существует. Более того, подобное взаимовлияние, взаимодействие является важным элементом процесса рождения и выработки той или иной научной теории. Периодически могут возникать вопросы о степени влияния философии на науку или о тех механизмах, посредством которых такое влияние осуществляется, однако сам факт существования подобного взаимодействия или взаимовлияния не может ставиться под вопрос. На протяжении всей истории науки философия оказывала существенное воздействие на развитие научных представлений о природе и, в свою очередь, наука оказывала влияние на развитие философии. В своей деятельности ученые неизбежно выходили за рамки эмпирических данных и в явной или неявной форме следовали дальше, основываясь на тех или иных философских представлениях. Философы со своей стороны всем ходом эволюции научного знания направлялись к пересмотру основных понятий, на которых строились их философские системы, как это было с понятиями материи, пространства, времени и причинности.
Моменты, когда философия оказывала важное влияние на науку, можно обнаружить на протяжении всей истории науки, начиная с ее ранних этапов и кончая современностью. Учениям ионийских натурфилософов, основанным на натуралистических или нерелигиозных подходах к природе, пришли на смену учения греческих философов постсократовского периода, чьи философские взгляды исходили из существования некоего божества, необходимого для понимания Космоса. Бенджамин Фаррингтон отмечает, что астрономия была «пифагорезирована и платонизирована в течение относительно короткого отрезка времени, последовавшего за закатом ионийской школы». Далее он добавляет, что «астрономия не воспринималась греческой публикой до тех пор, пока не была избавлена от атеистических представлений» [121] Farrington B. Greek Science. Baltimore, 1961. P. 94–95.
. Это лишь один из примеров того, как философский взгляд на мир может влиять на формирование научной теории.
За этим примером последовало множество других. Известный историк науки Александр Койре (А. Koyre) утверждает, что в вопросах понимания природы Галилей был платонистом и что это обстоятельство имело важное влияние на его становление как ученого. Взгляды Койре подвергались критике, но критика эта не отрицала возможности влияния философских представлений на Галилея [122] Ko yre A. Galileo and Plato // Metaphysics and Measurement. London, 1968. P. 1–43. См. также: Etudes Galileennes. Paris, 1966. P. 227–291. Критику взглядов Койре см. в: McTighe T.P. Galileo's Platonism': A reconsideration // Galileo: Man of Science. N. Y., 1968. P. 365–387.
. Объяснение природы, предпринятое Ньютоном, также было представлено им в рамках религиозного мировоззрения, что делало это объяснение приемлемым для широкой публики, а также раскрывало нечто важное для понимания внутренних убеждений самого Ньютона. Декарт даже отложил публикацию своей книги «Principia Philosophia», с тем чтобы попытаться как-то приспособить свои взгляды на природу к ортодоксальным религиозным представлениям о ней; надо отметить, что в целом ему это удалось, однако потребовало известных усилий. Влияние, оказанное немецкой натурфилософией начала XIX столетия на европейских ученых, широко известно, и это влияние привело к тому, что такой известный историк науки, каковым является Л. Пирс Уильямс, рассматривал натурфилософию в качестве важного составного элемента теории поля; он, в частности, утверждал, что идея обратимости сил «была идеей, заимствованной у натурфилософии, — идеей, к которой ньютонианская система физики относилась если и не враждебно, то, по крайней мере, индифферентно» [123] Williams L.P. The Origins of Field Theory. N. Y., 1966. P. 47.
. В каждом из перечисленных случаев проблема взаимодействия между наукой и философией является одной из основных проблем исследования для историка науки.
Интервал:
Закладка:
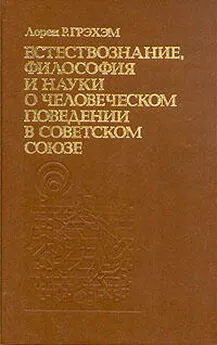

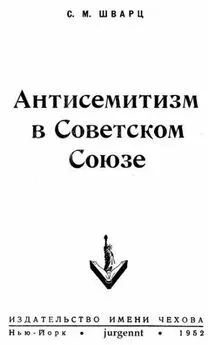
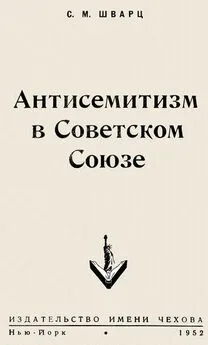
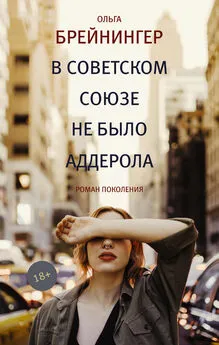


![Михаил Антонов - Жизнь в Советском Союзе была... [СИ]](/books/1077212/mihail-antonov-zhizn-v-sovetskom-soyuze-byla-si.webp)