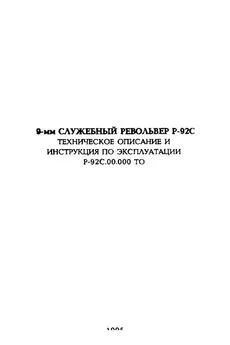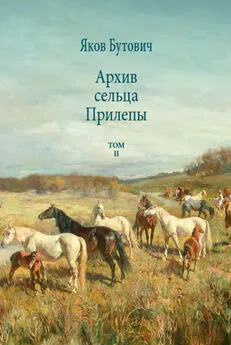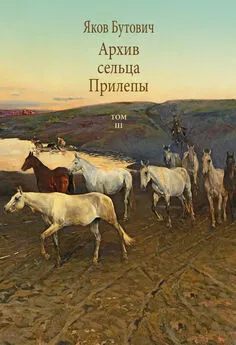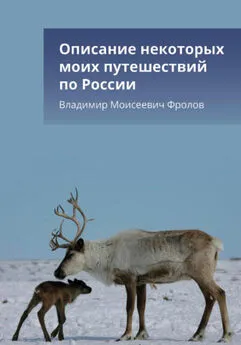Яков Бутович - Архив сельца Прилепы. Описание рысистых заводов России
- Название:Архив сельца Прилепы. Описание рысистых заводов России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Сабашниковы»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0142-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Бутович - Архив сельца Прилепы. Описание рысистых заводов России краткое содержание
Я. И. Бутовичу принадлежал конный завод в Прилепах в Тульской губернии, недалеко от Ясной Поляны. Позднее, в тяжелейших условиях послереволюционной разрухи ему удалось сохранить племенной фонд знаменитой породы. Его рысаки были связаны кровными узами с рысаками других заводов, и, желая проследить развитие породы, Бутович принялся за составление летописи лучших рысаков. Эту работу над книгой автор начал в 1926 г., когда судьба его завода уже висела на волоске, и продолжил после ареста в 1928 г., находясь в заключении.
«Архив сельца Прилепы» будет интересен и специалистам, и широкому кругу читателей, всем, кому дорог орловский рысак, ставший по выражению Бутовича, частью русской культуры.
Архив сельца Прилепы. Описание рысистых заводов России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если я упомяну еще кобылу Спарту (Мраморный – Соседка), зачисленную в заводские матки из приплодных собственного завода, то список маток, поступивших в 1904 году в мой завод, будет исчерпан.
В 1905-м я не купил ни одной кобылы, потому что был в действующей армии, отчасти же из-за революционных событий – этого преддверия катастрофы 1917 года.
Из всех жеребят, родившихся за пять лет, с 1901 по 1905 год включительно, побежали и выиграли Былина, Затея, Фурия и Карта, рожденные в 1904 году, и Бюрократия, Засада, Гильдянка 3-я, Сандиаза, Надпись и Фудутун, рожденные в 1905-м. Лучшими для первого года стали Карта 2.22 и Затея 2.22,3, для второго года – Фудутун 4.41. Из всех этих лошадей только две были от кобыл, наследованных мною от отца: Карта от Кометы и Сандиаза от Спарты. Остальные происходили от кобыл, купленных мною, и, кроме Надписи и Сандиазы, были детьми Недотрога. Я стал крыть своих маток исключительно Недотрогом и послал под других жеребцов лишь четырех кобыл: Счастливую под Пегаса (Бережливый – Людмила), Спарту под Летуна 2-го, Кашу под Вулкана, Гильдянку 2-ю под Ходкого. О результатах двух последних скрещиваний я говорил, а о первых двух скажу сейчас. Счастливая дала неудачную кобылу Страсть. Теперь я думаю, что соединение борисовских кровей с терещенковскими совершенно недопустимо, так как в этом случае встречаются чересчур разнородные элементы, и хотя борисовский Гордец состоял производителем у самого Терещенко, где дал резвых лошадей, я объясняю это исключительными достоинствами кобыл завода. Спарта дала очень хорошую кобылу Сандиазу 1.41, вполне в типе Летунов. Это, между прочим, была первая призовая лошадь, которая появилась на афише от моего имени и выиграла. Я ее оставил в заводе, и она дала у меня превосходных лошадей. Один из сыновей Сандиазы, Скипетр (от дубровского Хвалёного), был классной лошадью и продан мною на аукционе в Москве почти за 7 тысяч рублей. Его, к несчастью, сломали в двухлетнем возрасте. По себе Скипетр был очень хорош и, несмотря на изувеченную ногу, все же показал трех лет приличную резвость. Одна из дочерей Сандиазы стала заводской маткой в государственных заводах Московской губернии.
Первые пять лет моей коннозаводской деятельности дела в Касперовке в отношении кормления лошадей обстояли благополучно. Однако тренировке уделялось чересчур мало внимания, и это не могло не отразиться на резвости лошадей. Как ни малоопытен я был в то время, мое почти постоянное отсутствие в заводе также отражалось на деле неблагоприятно. Завод в это время терпел значительные убытки, и продажи лошадей далеко не окупали затрат. За первые пять лет жизни завода был продан за крупную сумму Г. Г. Елисееву только один старик Рыцарь. Это произошло в 1903 году. Все остальные лошади продавались от 275 до 500 рублей за голову, и главными покупателями были мой брат В. И. Бутович и г-н Кронрат. Брат покупал лошадей для себя и часть их перепродавал для городской езды в Одессу, а Кронрат был венским барышником и покупал лошадей для Вены. Несколько лошадей мне все же удалось продать призовым охотникам, например Придворного – в Санкт-Петербург В. Д. Соловьёву, Конницу – И. И. Карюку, Сосну – М. М. Таранову-Белозёрову и Смуту – Е. И. Шаповаленко. Из этих четырех лошадей побежал и выиграл один Придворный.
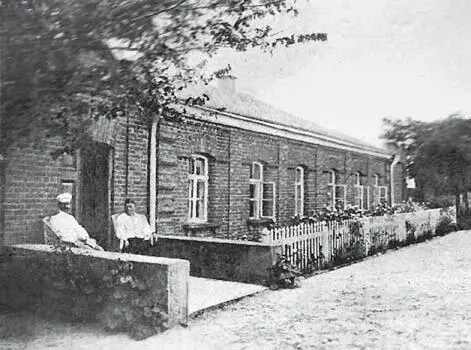
Конский Хутор . Барский дом
Перехожу теперь к периоду жизни завода на Конском Хуторе, с середины 1905-го и до мая 1909 года, когда завод был переведен в сельцо Прилепы Тульской губернии, где и обосновался окончательно. Каковы были те причины, которые побудили меня перевести завод из Касперовки? По обоюдному соглашению всех наследников Касперовка, то есть усадьба и прилегающая к ней земля, досталась моему старшему брату Н. И. Бутовичу. Вскоре после этого брат женился, и мое дальнейшее пребывание в Касперовке, да еще с заводом, могло его стеснить. Вследствие этого я подыскал небольшое именьице со вполне оборудованными для конного завода постройками, находившееся верстах в двенадцати от города Елисаветграда, при селе Высокие Байраки в Александрийском уезде Херсонской губернии. Это имение когда-то принадлежало Шишкину, было им продано и прошло через несколько рук до того, как я купил его. При имении было 137 десятин земли и замечательные кирпичные, крытые железом постройки, на которые Шишкин истратил не один десяток тысяч рублей. Особенно хороши были манеж и конюшни для ставочных лошадей. Словом, при небольшом ремонте этих, несколько уже запущенных, построек здесь можно было со всеми удобствами разместить мой конный завод. Отсутствие достаточного количества земли в то время меня не пугало, так как я думал, что вести завод на покупных кормах будет и удобнее, и дешевле, что было, конечно, заблуждением. Убедившись впоследствии в этом, я продал именьице и перевел завод в Тульскую губернию.
Высокие Байраки я переименовал в Конский Хутор, и под этим названием завод стал известен в коннозаводских кругах. Вскоре я был призван в ряды действующей армии, вследствие чего вынужден был поручить ведение ремонта, заготовку кормов, а затем и перевод завода на новое место кому-либо из своих знакомых. Выбор мой пал на чиновника Елисаветградского государственного банка М. Д. Яковлева, который был большим охотником и имел в городе двух-трех рысистых лошадей. За известное вознаграждение он согласился взять на себя труд по приведению построек и хутора в порядок, перевод завода, а затем и общее за ним наблюдение вплоть до моего возвращения из Маньчжурии. Алексеенко со всем этим сам, конечно, справиться не мог, хотя и оставался в роли управляющего заводом. Яковлев был страстный охотник, постоянно жил в Елисаветграде, а стало быть, мог часто и без ущерба для своей службы и своих дел бывать на Конском Хуторе. Благодаря работе в моем заводе Яковлев окончательно пристрастился к лошадям и после моего возвращения с войны бросил службу в банке и вскоре уехал в Сибирь, где взял в аренду землю и основал небольшой конный завод. Основу его завода составили кобылы моего завода, и Яковлев в какие-нибудь десять лет разбогател. Это был очень дельный, энергичный и толковый человек, вышедший из низов, но благодаря неустанному труду проложивший себе дорогу. Яковлев привел Конский Хутор в блестящий порядок и во второй половине 1905 года перевел туда из Касперовки мой завод. Когда я вернулся из Маньчжурии, мне оставалось лишь принять от него отчет и дело на полном ходу да обосноваться в доме.
Конский Хутор был очень симпатичный, живописный уголок, что называется, уютный. Дом небольшой, но поместительный, недалеко сельская церковь, при доме хороший сад, а внизу большой лог, по другую сторону которого расположилось село Высокие Байраки. Близость города также была приятна и полезна для дела, а от ближайшего полустанка оказалось всего полторы версты – 20 минут езды до города. Конский Хутор стоял на бугре, и кругом на большое расстояние была видна вся местность. Вдали синел лесок, принадлежавший хуторянину Сербинову, за ним виднелась усадьба помещика Еремеева, далее шла большая дорога на Елисаветград да чернело полотно железнодорожного пути, соединявшего Харьков с Одессой. Там и сям белели ряды крестьянских хат, виднелись хутора поселян, и далеко на горизонте блестели золотыми маковками городские церкви. Кругом царило невозмутимое спокойствие, а в летние дни, когда особенно сильно припекало, казалось, один сон бродил по селам да дрема по деревням и хуторам. В такие часы ни людского говора, ни смеха не было слышно, все замолкало, лишь где-нибудь во ржи и овсах перекликались перепела да дергачи и другая болотная птица резким голосом кричала по балкам и низинам. Изредка, будто нехотя, поднимали среди этой мертвой тишины бестолковый лай собаки и тотчас же стихали. Отдыхало село, спали хутора, дремали деревни, и думалось, что этой спокойной и безмятежной жизни не будет конца…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
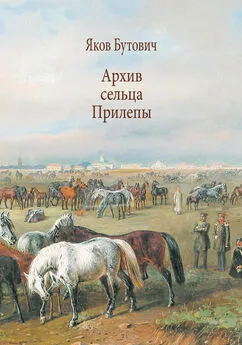
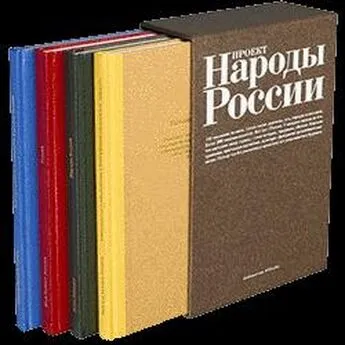
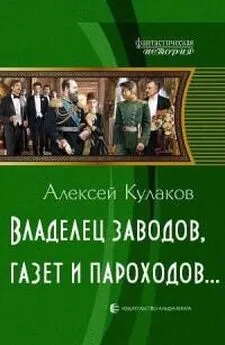

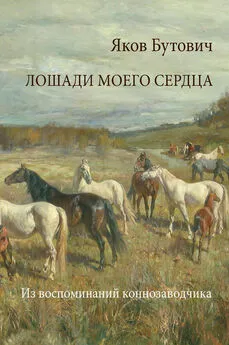
![Сэмюэль Тьюк - ОПИСАНИЕ РЕТРИТА, заведения близ Йорка для умалишенных из Общества Друзей [Содержит отчет о его возникновении и развитии, способах лечения, а также описание историй болезни]](/books/1090608/semyuel-tyuk-opisanie-retrita-zavedeniya-bliz-jork.webp)