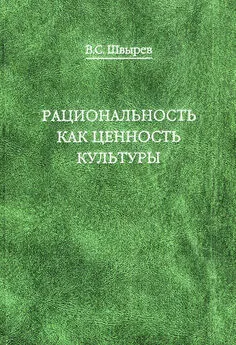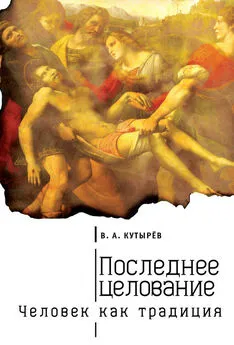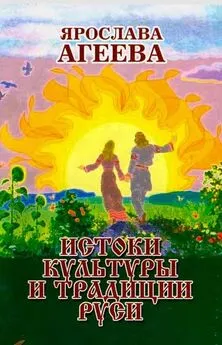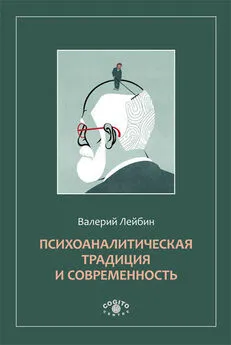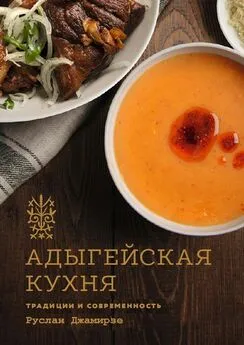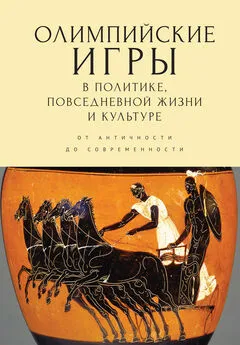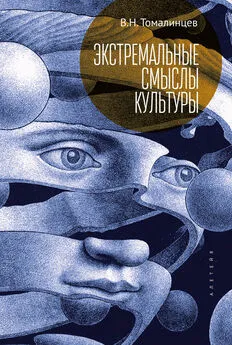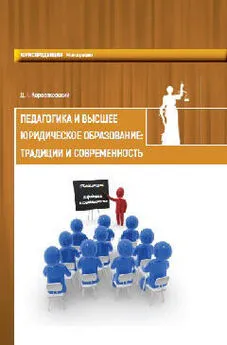Владимир Швырев - Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность
- Название:Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-89826-167-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Швырев - Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность краткое содержание
В книге намечаются исходные характеристики и генетические корни рациональности, рассматривается кризисное состояние идей рациональности в наши дни и его истоки, формирование и становление рациональной рефлексивной культуры, динамика перехода от классической рациональности к ее современному типу.
Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, это реальное рациональное мироотношение определяется соответствующими установками сознания, каковые и конституируют рациональность действия. В этом смысле в рациональном действии первично, безусловно, рациональное сознание. Тем самым проблема концептуального определения рациональности, если таковую считать правомерной, все-таки сводится к экспликации соответствующих установок сознания. Но при рассмотрении последнего в контексте жизнедеятельности человека, как это в свое время проделал молодой Маркс в своей концепции практики, мы получаем возможность анализа различных коллизий реализации исходных установок рационального сознания в реальном отношении человека к миру. Пафос концепции практики Маркса заключался в критике неоправданного «розового оптимизма» просветительной идеологии относительно возможностей рационализации действительности на основе реализации идеальных проектов и программ, в показе несовпадения логики программирующего сознания с «материей» реальной жизни, которую оно призвано программировать. В дальнейшем в своем учении о «превращенных формах» Маркс продемонстрировал, что рациональное отношение к миру ограничено трудностями не только реализации идеи в действительности, связанными с тем, что рационализация действительности всегда наталкивается на непредвиденные трудности, вовлекает в орбиту человеческой деятельности неожиданные и непредусмотренные силы и факторы, но и в возможностях реализации самого сознания, его исходных установок, взятых под исчерпывающий рефлексивный контроль. Обо всех этих заслугах Маркса как мыслителя, двигавшегося в направлении неклассического понимания сознания, что в свое время убедительно показал М.К. Мамардашвили, не надо забывать в наше время повального и в большинстве своем невежественного нигилизма по отношению к теоретической мысли Маркса. Как не следует вместе с тем забывать той догматизации теории марксизма, которая превратила последний в крупнейшую утопическую систему современной эпохи, доля вины за которую лежит, конечно, и на самом Марксе, не говоря уже о тех пагубных практических последствиях, которые оказались связанными с реализацией этой утопии.
Вернемся, однако, к вопросу о «корнях» рациональности в целом. Прежде всего, рациональность, на что, кстати, указывает и этимология латинского слова «рацио», предполагает соразмерность, адекватность, соответствие человеческих позиций реальному положению дел в этом мире, той реальной ситуации, связанной с этим положением дел, проблемной ситуации, «идеальным планом» действия в которой выступает соответствующая человеческая позиция. Указанная выше соразмерность, соответствие, адекватность обеспечивает эффективность рационального отношения к миру, что охватывает как рациональность познания, так и рациональность действия. Рациональное отношение к миру обязательно предполагает нацеленность на эффективность, на успешность действия. Но сама по себе эффективность, успешность не может никоим образом рассматриваться как достаточный специфический признак рациональности. Эффективность поведения, если она достигается на основе непосредственной инстинктообразной реакции организма, автоматизма сознания, воспроизведения традиционных штампов поведения действия методом «слепого тыка», спонтанных импровизаций и пр., не может считаться свидетельством рационального действия. Какие-то удачные находки и решения, действительно являющиеся объективно целесообразными, помогающими успешно решать стоящие перед субъектом деятельности задачи, очень часто создают иллюзию рационального поведения там, где имеют место другие типы ориентации в реальности и адекватной к ней адаптации. Этот феномен можно наблюдать на любых уровнях поведения. Тенденция к размыванию границ рациональности, к «рациональности без берегов», как правило, и находит свое выражение в сближении или отождествлении эффективности и рациональности поведения, что отчетливо проявляется в интерпретации социокультурной деятельности в архаических и традиционных обществах «как по-своему рациональных». Между тем обязательными специфическими условиями, которые позволяет, на мой взгляд, говорить о рациональности даже в самом широком допустимом смысле, являются определенные установки сознания, субъективные предпосылки деятельности и поведения. Рациональность правомерно усматривать только там, где существуют специальные усилия сознания субъекта по анализу соразмерности его позиции той реальной ситуации, в которой он находится, что предполагает самостоятельное построение «идеального плана» действий, ориентируемого на реальную ситуацию (т. н. действия до действия, как говорят некоторые психологи).
Для рациональности, таким образом, свойственна интенция на сознательный рефлексивный контроль над «идеальным планом» мироотношения, превращения его в специальный предмет деятельности. Эта тенденция при развитии заложенных в самой основе рациональности потенций приводит в конечном счете к становлению рационально-рефлексивного сознания, рационально-рефлексивного типа отношения к миру, рационально-рефлексивной культуры, наконец.
Противопоставление рационального нерациональному следует связывать, таким образом, не с каким-либо видом содержания знания или типа опыта, а с наличием или отсутствием определенной установки субъекта сознания, типом его ментальной деятельности. Если эта установка наличествует и осуществляется, то деятельность субъекта как реально практическую, так и познавательную можно рассматривать как рациональную, даже в том случае, когда она в силу тех или иных причин не оказывается успешной, эффективной. Если же данной установки нет, то поведение или деятельность следует характеризовать как нерациональные, даже если они эффективны, приводят, скажем, к достижению определенной цели. Ведь, например, доказательное рассуждение, проведенное на основе норм логики – безусловно, частный вид рациональной деятельности, – следует отличать от рассуждения, которое не руководствуется такими нормами, как логическое от нелогического даже и тогда, когда в него вкрадывается ошибка и оно оказывается неверным. Напротив, пришедшее на ум и оказавшееся правильным суждение мы не назовем логическим выводом, если оно не получено в результате сознательной установки на правила логики. Поэтому я не могу согласиться с А. Никифоровым в том, что критерием рациональности является достижение цели [34] См.: Никифоров А.Л. Соотношение свободы и рациональности в человеческой деятельности // Исторические типы рациональности. Т. 1. М., 1995. С. 284–285.
. Цель может быть и не достигнута, то есть действие объективно оказалось неэффективным, но тем не менее, если в его основе лежала попытка рационального «примеривания» к ситуации, это действие по его интенции следует квалифицировать как целерациональное. Вебер в своем учении о целерациональности был более точен, вводя понятие «правильно-рационального поведения». Последнее он «употребляет для характеристики объективно-рационального действия – целерациональное и правильно-рациональное действие совпадают в этом случае, если средства, выбранные субъективно в качестве наиболее адекватных для достижения определенной цели, оказываются и объективно наиболее адекватными» [35] Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность // Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. М, 1991. С. 56.
.
Интервал:
Закладка: