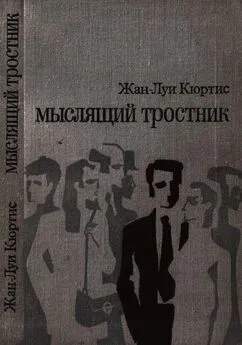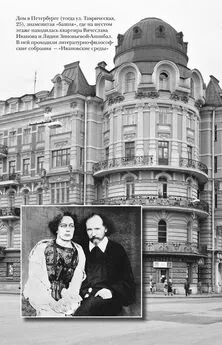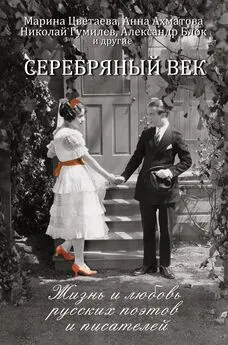Борис Тарасов - «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей
- Название:«Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0341-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Тарасов - «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей краткое содержание
Прослеживая движение основных этапов биографии Паскаля от «науки» к «религии» и знакомясь с печатаемыми в приложении его «Мыслями», читатель имеет возможность точнее и вернее оценить своеобразие индивидуального восприятия тем или иным русским философом или писателем своего французского предшественника.
«Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Легко у них и получить отпущение греха, так как, по отцу Бони, «можно отпустить тому, кто сознается, что надежда на отпущение вовлекла его во грех с большей легкостью, чем если бы он был лишен этой надежды».
Да и вообще область греха значительно сокращается с помощью «святых и благочестивых хитростей». Вот, например, такой: «Нельзя назвать ближайшим поводом ко греху, когда грешат лишь редко, например раза три-четыре в год, по внезапному увлечению женщиной, с которой живешь в одном месте». Более того, по отцу Бони, грех иногда становится добродетелью: «Всякого рода людям разрешается посещать места разврата с целью обращать там падших женщин, хотя и довольно правдоподобно, что они будут там грешить: как не раз уже испытано, что вовлекались во грех видом и ласками этих женщин. И хотя есть ученые, не одобряющие этого мнения и считающие, что нельзя разрешать добровольно подвергать опасности свое спасение для помощи ближнему, тем не менее я охотно принимаю это оспариваемое ими мнение».
Но это еще не все. Касаясь «самого важного пункта их морали», автор узнает, что у иезуитских духовников легко освобождаются не только от грехов, но и от любви к Богу. «Когда мы обязаны действительно чувствовать любовь к Богу?» – спрашивает Эскобар. На этот счет у казуистов различные мнения, на любой вкус: перед смертью или на смертном одре, каждый год или раз в пять лет, в праздничные дни и т. п., даже «можно спастись и никогда не любивши Бога».
Здесь ирония «порядочного человека» переходит в гнев: «Нет такого терпения, которого бы вы не истощили, и нельзя без ужаса слушать вещи, которые я только что выслушал». «Ведь это же я не от себя», – поясняет «добрый патер». «Я это отлично знаю, отец мой, но вы не питаете к ним отвращения; и не только не ненавидите авторов этих правил, но чувствуете к ним уважение… Откройте, наконец, глаза, отец мой; и если вас не трогали другие заблуждения ваших казуистов, пусть эти последние отделят вас от них своими крайностями. Я желаю этого от всего сердца для вас и для всех ваших отцов и молю Бога, чтобы он соизволил научить их, насколько обманчив свет, ведущий к таким пропастям, и чтобы он наполнил своей любовью тех, кто осмеливается освобождать от нее людей».
После этого автор оставляет патера и не видит более необходимости дальнейших бесед с ним: «Я достаточно читал их книги, так что могу вам рассказать столько же о их морали, а о их политике, может быть, еще больше, чем он сам». Так автор расстается с «добрым патером», который помог ему познакомить читателя с общими принципами и многочисленными частными примерами снисходительной морали казуистов. По свидетельству современников, «добрый патер» весьма похож на Эскобара, чаще всего упоминаемого Паскалем. Наивный Эскобар очень радовался, что его имя много раз встречается на страницах «Писем к провинциалу» и что резко повысился интерес к его сочинению (в 1656 году срочно выпустили новое издание). «Популярность» Эскобара благодаря Паскалю стала настолько высокой, что с этих пор во французском языке начал свое существование глагол escobarder («лицемерить»), образованный от его имени.
6
Казуистика как приспосабливание общих положений теологии, морали и юриспруденции к рассмотрению сложных жизненных ситуаций и конфликтов совести человека сообразно с местом, временем и индивидуальными обстоятельствами не была изобретением иезуитов. Она имела гораздо более древнее происхождение и стремилась разрешать действительно затруднительные для средневекового человека вопросы: можно ли ему поститься при серьезном заболевании, защищаться при нападении бандита, умирая с голоду, взять чужой хлеб, убивать на войне и т. п. Многие из казуистов (например, тот же Эскобар) вели безупречную нравственную жизнь. И Паскаль в «Письмах…» ни единым штрихом не касается их личностей (в отличие от своих противников), а целиком опирается на их труды, которые незаметно превращались в болезненно самоупоенную и крючкотворную софистику. В софистике этой и появлялись чисто иезуитские понятия (наподобие «пробабилизма» или «двусмысленных оговорок»), приводящие через неуловимые различительные тонкости рассуждений и бесконечного дробления целостности восприятия к набору правил для нарушения духа нравственных законов при сохранении их буквы.
Основной порок подобной диалектики Паскаль видел в релятивизации нравственности, в забвении абсолютов в духовном мире человека и разрушении его совести.
Совесть, по Паскалю, дар понимания человеком сообщаемой ему вести о его греховности, вине, духовном несовершенстве. Этот дар превращается в своеобразный орган духовной жизни человека, позволяющий ему различать добро и зло, сдерживать страсти и своекорыстные расчеты, видеть незначительность своих заслуг. Совесть связывает воедино всех людей, выводит их из состояния тяжеловесной эгоистичной замкнутости. Она мучает (это ее основное свойство) человека, мешает ему быть самодовольным и подвигает его на бесконечное совершенство.
Юридическое комментирование казуистами нравственной жизни, оставлявшее как можно меньше места для самостоятельных суждений, вело к тому, что ее центром становилась не совесть человека, а авторитет «важного лица», «мудрого духовника». «Важные лица» и «мудрые духовники», подкладывая «подушки под локти грешников», тем самым убаюкивали, а в конечном счете и губили свободную совесть, воспитывали безответственность.
Зачем все это было нужно «дружине Иисуса»? Ответить на подобные вопросы стремился Достоевский в «Братьях Карамазовых». Для «простого желания власти, земных грязных благ», считает Алеша Карамазов; чтобы дать людям «тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они созданы», признается великий инквизитор. А для этого необходимо успокоить невыносимые муки совести и разрешить несовершенному человеку грех, но только «с нашего позволения».
Действительно, подобно де Мере, но по-другому и на иной основе «важные лица» и «мудрые духовники» стремились осчастливить своих духовных чад, создав им внешние декорации и «минимум» нравственной жизни за счет потакания «естественному» ходу вещей. «Естественный» же ход вещей вел к тому, что «минимум» сползал до нуля.
Как Паскаль, не занимавшийся основательно теологией, мог так быстро постигнуть основные принципы, тонкости и нюансы моральной доктрины иезуитов? Прочитать столько трудов, выбрать из них необходимое и так ярко подать его? Помогали ему в этом Арно и Николь, снабжая соответствующими сочинениями и цитатами, давая к ним дополнительные комментарии. Николь, вспоминая совместную работу с Блезом, писал, что в его великолепной памяти «вещи запечатлевались лучше слов» и уже никогда не ускользали из нее, будучи хоть один раз схвачены рассуждением. «Меня спрашивают, – говорил Паскаль, – читал ли я сам все те книги, которые цитирую. Я отвечаю, что нет: потребовалось бы провести всю мою жизнь за чтением очень плохих книг, но я дважды прочел старика Эскобара. Что касается остальных, их читали мои друзья; но я не привел ни одного отрывка, не прочитав его сам в той книге, из которой цитировал, и не вникнув в вопрос, которого он касался, а также не прочитав того, что отрывку предшествовало, и того, что за ним следовало, дабы не ошибиться и не процитировать вместо возражения ответ, что было бы несправедливым и достойным упреков».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: