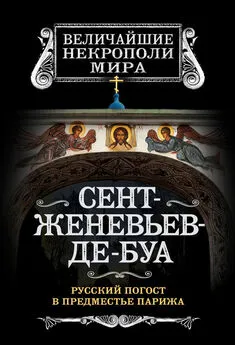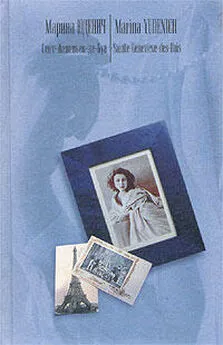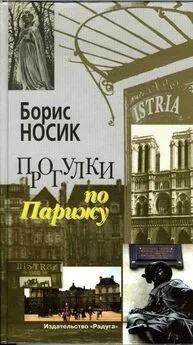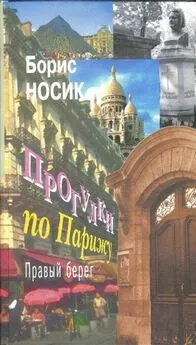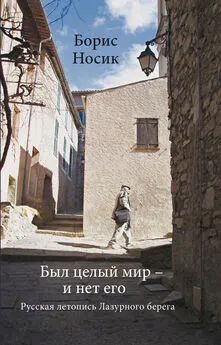Борис Носик - Сент-Женевьев-де-Буа. Русский погост в предместье Парижа
- Название:Сент-Женевьев-де-Буа. Русский погост в предместье Парижа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-4438-0538-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Сент-Женевьев-де-Буа. Русский погост в предместье Парижа краткое содержание
Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев…
Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века. На страницах увлекательной книги Бориса Носика оживают многие имена великих и неизвестных с их горестями и радостями, хитросплетениями судеб…
Сент-Женевьев-де-Буа. Русский погост в предместье Парижа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Супруга знаменитого врача, Сергея Петровича Боткина, профессора Медицинской академии, личного медика императора Александра II и Александра III, Екатерина Боткина была родной сестрой Владимира Андреевича Оболенского.
Доктор Булгаков родился в Киеве в семье профессора Духовной академии и жил на Андреевском спуске, в том самом доме, который в 60-е годы стал самым знаменитым среди приезжих москвичей домом украинской столицы, потому что и этот дом, и Николай Афанасьевич Булгаков (Николка) воскресли в ту пору для всех нас в романе «Белая гвардия», написанном еще до войны родным братом Н. А. Булгакова, писателем Михаилом Булгаковым. Сам Николай Афанасьевич после юнкерского инженерного училища воевал против большевиков в Белой армии, потом добрался через Крым в Югославию, учился в Загребе, занимался наукой, преподавал бактериологию в Мексике (читал лекции по-испански и по-французски). Потом он был врачом в Париже и, как и многие русские врачи, часто лечил своих бедных соотечественников бесплатно… Его брат-писатель очень хотел съездить во Францию, повидать брата и даже просил личного разрешения на это у поклонника своей драматургии диктатора Сталина. Но диктатор, несмотря на все клятвы Булгакова вернуться из-за границы домой, разрешения на поездку не дал, так как ясно понимал, что не всякий нормальный человек из такой поездки вернется. До «оттепельных» же времен, до своей международной славы и даже до смерти поклонника-тирана Михаил Афанасьевич не дожил – так что братья после гражданской войны больше не виделись…
Николаю Афанасьевичу пришлось побывать при немцах в лагере. После войны он работал в Пастеровском институте (где и до него немало трудилось русских ученых), считался видным бактериологом. У могилки его нередко стоят русские туристы. Самые грамотные читатели и театралы говорят: «Николка».
Я еще знаком был в приходской библиотеке Ниццы с Ниной Владимировной Гейтс, которая там выдавала книжки. Она была из тех Булгаковых. Ее отец был кузеном профессора Афанасия Булгакова.
…Мне вспомнилось, как вскоре после моего приезда во Францию Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина показала мне только что выпущенную Славянским институтом «Библиографию трудов о. Сергия Булгакова». Том был внушительный, ибо над чем только не работал этот замечательный богослов, философ, экономист, искусствовед, литературный критик, проповедник, о чем он только не писал – начиная с первой своей книги «О рынках при капиталистическом производстве», которую молодой приват-доцент кафедры политэкономии и статистики Московского университета выпустил 26 лет от роду и которая заслужила похвалу некоего Ульянова (по кличке Ленин). Так ведь Сергей Булгаков был тогда и сам «легальный марксист», яростный поклонник Маркса, состоявший в «нежной переписке» с самим Плехановым.
Но развитие и эволюция Булгакова совершаются быстро, разочарование в Западе обращает его к неославянофильству, а главное, происходит его возвращение в православную церковь – теперь уж до конца его дней. Возвращение его идет через анализ русской литературы и мысли: Булгаков пишет о Герцене, о Достоевском, о Владимире Соловьеве, позднее о Чехове, о Льве Шестове, о Толстом, о Пушкине… Булгаков разрабатывает целую программу борьбы за гражданские свободы под знаменем христианства и в конце концов совместно с П. Б. Струве и другими формулирует это направление в названии общего собрания статей – «От марксизма к идеализму». Еще позднее он разрабатывает свою философскую и богословскую систему, пишет о философии хозяйства, о философии имени, о философии творчества, о Софии-Мудрости, о красоте…
Отец Сергий Булгаков был выслан из России вместе с мужем Татьяны Алексеевны писателем Осоргиным, вместе с философами Бердяевым, Франком, Вышеславцевым, Ильиным, Трубецким, вместе с экономистами, кооператорами, математиками, писателями… В 1922 году им был предложен выбор – смерть или вечное изгнание. Что еще было предложено в дополнение за бесценный дар жизни, угадать не трудно. Благодарность, просоветское влияние на эмиграцию, лояльность, иногда выступления… И все же дар жизни. Хотя и в рамках спецоперации. Так уплыли два философских парохода…
Позднее таким, как они, приговоренные к расстрелу, уже никакого выбора не предлагали: просто убивали в России всех, кто был выше, чище, талантливей, грамотнее…
Кладбище Сент-Женевьев – свидетель гигантской русской катастрофы, «интеллектуальных чисток», «генетической негативной селекции».
В эмиграции отец Сергий Булгаков (он принял сан священника еще в июне 1918 года) участвует в создании русского Богословского института, что на Сергиевском подворье в Париже, и на протяжении многих лет фактически возглавляет преподавание в нем. Он становится одним из организаторов Русского студенческого христианского движения, вдохновителем и воспитателем эмигрантской молодежи, ее наставником, духовником. Это была пора эмигрантского религиозного ренессанса и русского православия, освобожденного от государственного диктата, открытого благородным идеям мирового христианства, идеям всемирного христианского братства, свободного от келейности и провинциальной ксенофобии. Отец Сергий становится одним из первых русских деятелей экуменического движения…
Это могила замечательного русского прозаика, поэта и переводчика Ивана Бунина.
Многие десятилетия он думал о смерти, опасался, что сразу после смерти его забудут. Смерть пришла неотвратимо 9 ноября 1953 года, но забвение не наступает. Правда, слава его до сих пор в основном слава русская: даже во Франции, где он жил и творил, он почти не известен. Но в России Бунин еще и до революции обрел широкую известность, написал прекрасные стихи, повесть «Деревня», рассказ «Господин из Сан-Франциско», перевел «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, дважды удостоился Пушкинской премии Петербургской академии наук, был избран в почетные члены этой Академии, объездил весь мир, встретил свою будущую жену Веру Муромцеву…
Как и многие тогда, он пророчил разлив «огненной реки» российской катастрофы, а в одесском дневнике 1918 года описал разгул новой власти, припечатав имя всему происходившему – «Окаянные дни».
В 1920 году Бунин эмигрировал во Францию, навсегда. Ему было 50, он был полон сил и новых надежд, полон воспоминаний… Он был беден, конечно, но кому ж было тогда и помогать, как не любимому русскому писателю, не академику Бунину. Ему помогали и чехи, и сербы, а больше всех – русские евреи-меценаты (Розенталь, «петербургский Нобель», друзья Цетлины, друг Фондаминский…).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: