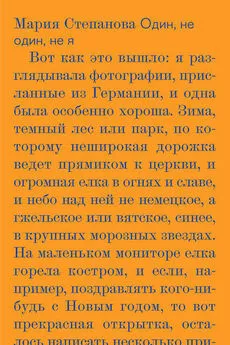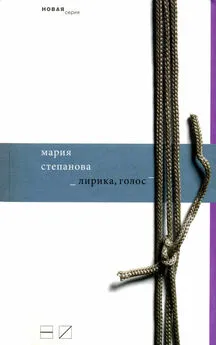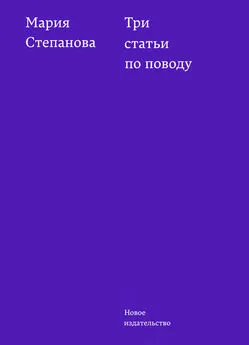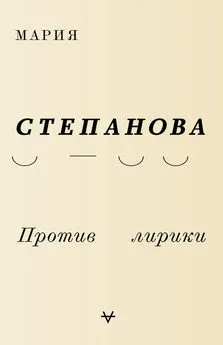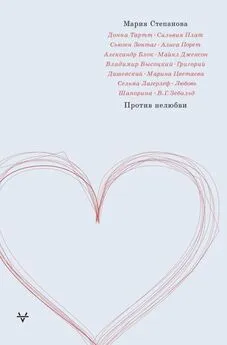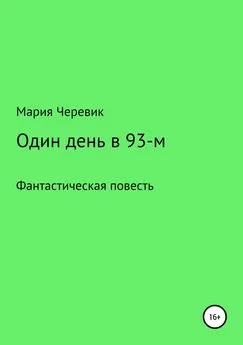Мария Степанова - Один, не один, не я
- Название:Один, не один, не я
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-182-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Один, не один, не я краткое содержание
Один, не один, не я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Насколько важным для стихов были девяностые, вторая их половина, когда в обиход поминутно вбрасывалось новое, настолько странными, зависшими, как компьютер, вышли благополучные нулевые. Время стабильности оказалось таким и для стихов; но скажу впроброс, что эти десять лет дали едва ли три-четыре по-настоящему ярких поэтических дебюта. Зато тогда же замолкали, бросали или меняли письмо поэты сложности. Назову несколько имен, отсутствие которых в повседневном обиходе кажется мне едва ли не более значимым, чем присутствие остальных. Исчезающе мало пишут Михаил Гронас и Григорий Дашевский, основной корпус текстов которых складывался в девяностые; замолчали Всеволод Зельченко, Александр Анашевич, Михаил Сухотин, перестал печататься, если не писать, Кирилл Медведев. Радикально изменились поэтики Дмитрия Воденникова, Елены Фанайловой, Сергея Круглова – и во всех трех случаях поворот был в сторону новой внятности, прямой речи, немедленного воздействия. В стороне от читательского спроса оказались авторские практики Михаила Еремина, Геннадия Айги, Всеволода Некрасова, Николая Байтова, Андрея Полякова; этот (важнейший для понимания того, что на самом деле происходило с русскими стихами в последнее десятилетие) ряд можно продолжать, пока не кончится страница.
В известном смысле с русской поэзией в это время произошло то же, что со всей страной. Выстроилась сложная и разветвленная система институций, регулирующих потребление текстов. Вслед за ней возникла система альтернативная (литературный интернет), которая моментально занялась саморегулированием, став чем-то вроде неофициальной изнанки существующей («профессиональной») системы. Сразу же стало страшно важным знать и понимать, кто именно говорит стихами и о стихах – то есть любое высказывание независимо от собственной задачи оказалось вовлечено в процесс выстраивания иерархий (откровенней всего это делается в «Живом журнале» с его вечным аргументом «да ты кто такой»). При этом критический разговор о текстах стал невозможным или необязательным, вытеснился с привычных площадок в блогосферу, так что статус разговора о стихах стал заведомо неофициальным, а сам разговор – упрощенным, фрагментарным, жестко эмоциональным. Все это как-то слепо, неосознанно копирует то, что происходило в эти годы в России, и сама случайность этого подражания делает ситуацию особенно нелепой. О другой стороны, именно умение укрощать сложное диктуется сейчас средой, носится в воздухе и висит на воротнике; без него способность к нерассуждающему удовольствию может атрофироваться.
Но у тонкого в этой системе координат попросту нет шансов. Именно тонкого нам сейчас мучительно, отчаянно недостает.
Возможно, дело в том, что мы слишком близко к сердцу приняли позицию другого (другого себя, себя-читателя, себя-чужого). Мы захотели читать собственные стихи глазами соседа по купе, захотели, чтобы они нам нравились – в то время, как они должны бы пугать или поражать, а мы – быть с ними незнакомы.
Возможно, дело в том, что лицо другого придвинулось слишком близко и слишком быстро. О распространением социальных сетей непрозрачность и разделенность существования автора, стихов и читателя из естественного состояния вещей становится вопросом личного выбора (а намеренная непрозрачность – чем-то вроде экзотической аскетической практики). Ситуация, когда единицей публичного бытования текста вместо книги становится свеженаписанное стихотворение, которое к тому же и пишется зачастую на миру, на чужих глазах, многое меняет. Относиться к стихам теперь можно как к разменной монете коммуникации, одной из бытующих валют. Возможность немедленной реакции на текст делает его еще больше похожим на товар, услужливо доставленный на дом (комментарии к стихам сдаются читателями, как сдача с купюры, внося дополнительную подсветку успеха или неуспеха). Стихи стали сообщением, плохо (косо) пристроенным к адресату; встали рядом с записью в блоге, фотографией в ленте фейсбука. Впрочем, легко сказать, что жалеть не о чем: в конце концов и картина – давно уже не окно в глухой стене, каким она была в старые годы.
Возможно, вместе с непрозрачностью утрачено что-то очень важное – право автора на одиночество, на неписание, на долгие переходы от текста к тексту. И, не в последнюю очередь, на незнание всего, что о тебе говорят. «Я не читаю рецензий», «не занимаюсь vanity search'eм», «не интересуюсь читательской реакцией» – тактика, которая сейчас, с появлением blogs.yandex.ru, кажется архаической (если не лицемерной), – едва ли не единственный способ противостояния логике спроса и запроса. Она все равно победит: своего читателя уже трудно не знать в лицо, скорость коммуникации все увеличивается, временной зазор между текстом и публикацией минимальный, а между текстом и чужой оценкой – и вовсе никакого. Уверена, хотя не могу проверить, что все эти штуки влияют и на саму поэтическую работу: меняется темп письма и количество написанного, расплывается (или собирается в точку) адресация. Мы живем на миру, демонстрируя публике свои прыжки и кульбиты на широком фоне общегосударственной бодрости и полноты. Ничего удивительного, что и любое суждение вкуса воспринимается нами как попытка выстроить властную вертикаль.
Поразительно, что все согласны с тем, что все не так – но никакого представления о том, как сделать так, нет. Позитивная программа у каждого сводится к перечислению нескольких имен по списку; именно поэтому все так стесняются хвалить чужие стихи – понимая, что примирение и согласие длится только до тех пор, пока эта неприличная вещь – частное мнение, личный вкус – не обнажена. Строители вавилонской башни даже не пытаются уже поговорить друг с другом; нет ни общего языка, ни границ, ни правил, ни самой веры в возможность понимания. Вместо нее – ощущение дурной стабильности; чувство, что мы участвуем в работе чужого, не нами заведенного, механизма. Это чувство, думаю, общее у всех участников литературного процесса, да и у всех вокруг.
Прежде всего – осознать смехотворность и относительность рукотворных иерархий. Никто никого не отменяет, никто никого не подсиживает, никто никому не нужен. Холодок непристроенности (на фоне истерической подогретости, в которой сейчас существует театр или арт) – единственное, что дает поэзии шанс не участвовать в параде общих достижений, не оказаться паролем-отмычкой, открывающей двери для стороннего, внешнего смысла. В этой ситуации единственным выбором представляется непрозрачность: темное, закрытое, непопулярное, незанимательное, неуспешное катакомбное существование, идущее в стороне. В том числе – и от собственного «хочу» и «могу», погружающих каждое действие в логику рынка, готовых вписаться в любой контекст и превратить любое поражение в хорошо рассчитанный выигрыш.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: