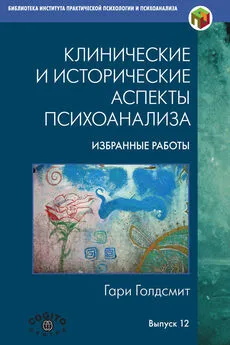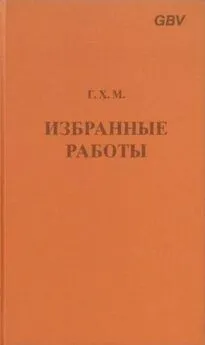Николай Хренов - Избранные работы по культурологии
- Название:Избранные работы по культурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Согласие»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906613-01-1, 978-5-906709-01-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Хренов - Избранные работы по культурологии краткое содержание
Книга предназначена для ученых-культурологов, преподавателей культурологии, докторантов и аспирантов, ведущих исследования по проблемам культурологической науки и образования.
Избранные работы по культурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На эту тему высказывался Д. Мережковский. У него концепция этой переходной эпохи была весьма любопытной. Он доказывал, что, возникшая в эпоху Ренессанса на Западе традиция приблизилась к своему финалу. Культура, обязанная этой традиции, омертвела, а «всемирно-историческая работа», начавшаяся с Возрождения и Реформации, работа исключительнонаучной, критической, разлагающей мысли, если не завершилась, то уже завершается, что эта «дорога вся до конца пройдена, так что дальше идти некуда» [206, с. 135]. Смысл исследования Д. Мережковского, посвященного творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского, в котором он данную мысль высказывает, заключается в том, чтобы показать, что на рубеже XIX–XX веков развертывается новый, уже в границах славянского мира Ренессанс. По мысли Д. Мережковского, западный Ренессанс не удался. Не удался он потому, что в своем развитии христианство опиралось лишь на стихию Духа, предав забвению то, что было присуще язычеству, а именно Плоть.
Вот это отторжение языческих ценностей постепенно, с эпохи Ренессанса привело возникшую и развивающуюся культуру к краху. Но с рубежа XIX–XX веков наступает новая эпоха. Пришла пора реабилитировать существовавшую в язычестве витальную стихию, возродить Плоть и на этой основе создать новый культурный синтез – Духа и Плоти, язычества и христианства. В несходстве Л. Толстого и Ф. Достоевского Д. Мережковский улавливал движение к будущей культуре, в которой будет возрождено язычество, ассоциирующееся у Д. Мережковского, как, впрочем, и у Ф. Ницше, у которого он эту идею заимствовал, с образом Диониса. И у Л. Толстого, и у Ф. Достоевского Д. Мережковский фиксирует не просто движение к новой культуре и новому человеку, но и будущее возрождение через религиозное возрождение.
Параллели подобного рода проводили также Н. Бердяев и В. Брюсов. Так, проводя аналогичную параллель, Н. Бердяев обращал внимание, однако, не только на сходство, но и на некоторое несходство двух эпох. «Если эпоха Возрождения была возвратом к правде язычества, возвратом к жизни земной, – писал он – то наша эпоха есть начало возрождения религиозного смысла жизни, соединения правды язычества с правдой христианства, начало новой эры, связанной с диалектическим переворотом в мистической основе мира» [38, с. 38].
Что касается В. Брюсова, то, разделяя мысль о славянском Ренессансе, он констатирует пока лишь его начальную стадию. Доказывая мысль, согласно которой искусство расцветает в ситуации крупных социальных переворотов, как в Афинах после греко-персидских войн, В. Брюсов пишет: «По аналогии мы вправе ожидать, что и в нашей литературе предстоит эпоха нового Возрождения. В то же время прошлое литературы показывает нам также, что такие Возрождения всегда совершаются медленно, в течение ряда лет, большей частью – целого десятилетия. Поэтому мы не вправе требовать, чтобы наша литература теперь же, когда еще не умолкли ни гулы войны, ни вихри революции, сразу предстала нам обновленной и перерожденной. Мы должны искать одного – примет начинающегося Возрождения» [62, т. 6, с. 475].
Таким образом, как мы убеждаемся, определенное единодушие по поводу того, что из себя представляет искусство, да, собственно, и культура этого времени, все же можно констатировать. И это в ситуации, когда, как пишет А. Блок, интеллигенция разделилась на десятки враждебных лагерей и группировок. Это не может не удивлять. Но не может не удивлять и то, что с такой оценкой этого периода в искусстве мы, люди начала XXI века, тоже согласны.
1.6. Логика художественного процесса на рубеже XIX–XX веков: от повторяющейся функциональной фазы к фазе эстетического гедонизма
Тем не мене, ни эпистолярные источники, ни критические эссе, в которых современники давали своей эпохе оценки, иногда лестные, не могут исчерпать всех возможных источников. Чтобы найти место интересующей нас эпохе художественной жизни в истории, необходимо исходить из каких-то методологических критериев. Когда-то М. Эпштейн пытался логику развития русской литературы систематизировать, усматривая в каждом столетии четыре фазы (функциональную, моральную, религиозную и эстетическую) [432, с. 157]. Искусство рубежа XIX–XX веков менее всего соответствует начавшим активизироваться в эпоху «шестидесятников» XIX века функциональным установкам, которые такую значимость приобретут с 20-х годов.
Искусство рубежа XIX–XX веков – это искусство специфического периода, которое можно было бы назвать искусством эпохи «оттепели», понимая под ней разложение в российской истории империи, аналогичное тому, что произойдет спустя столетие, в хрущевскую эпоху, когда имеет место уже разложение большевистской империи. Констатируемое нами исключение В. Паперным первой в истории русской культуры оттепели из поля внимания не позволило ему сделать еще более интересные наблюдения, чем сделанные им в его книге. Кстати, именно так, т. е. как оттепель современниками А. Блока и М. Врубеля воспринималась эпоха Серебряного века, что, собственно, и позволяет уточнить применяемую В. Паперным к искусству XX века схему, включая искусство Серебряного века в то, что исследователь называет культурой Один.
Так, в статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Д. Мережковский констатировал: «Мы живем в странное время, похожее на оттепель» [211, с. 137]. Такое же восприятие времени было характерно и для З. Гиппиус. Описывая связанные с поражением в Японии манифестациями на улицах Петербурга, забастовками, она замечает: интеллигенция переживает «весну» [95, кн. 2, с. 247].
Атмосферу этой оттепели более подробно описал в своей книге «Когда начальство ушло» В. Розанов. Само название книги уже вскрывает смысл периода, называемого оттепелью. На первых страницах этой книги В. Розанов по-своему расшифровывает смысл оттепели в российской истории. «Для меня несомненно, – пишет он – что исчезновение «начальства», таяние его как снега под солнцем… вернее – перед весною… начинается и всегда начнется по мере возрождения в человеке благородства, чистоты и невинности. Это – тот огонь, в котором плавятся все оковы» [270, с. 8]. Но раз начальство уходит, то в соответствии с логикой В. Паперного в обществе начинается растекание людей в пространстве и упраздняется социальная иерархия. Это обстоятельство начинает определять направленность художественного процесса.
Смысл оттепели в эту эпоху, как и вообще всякой оттепели, не важно, имеется ли в виду александровская эпоха (рубеж XVIII–XIX веков) или поздняя эпоха хрущевская, заключается в понижении роли государства, а значит, и бюрократии и в активизации общественной стихии. Но именно это и происходило в интересующую нас эпоху, когда «начальство ушло». Может быть, неприятие государственности по-настоящему прозвучало лишь в произведениях и публицистике Л. Толстого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: